Немножко лошади
Лев Пирогов о Викторе Пелевине

от типичный зачин среднестатистической статьи о Пелевине: «Редкое качество романов Пелевина в том, что они интересны и интеллектуалам, и широкой читательской аудитории». Нормальная фраза, звучит привычно, ничего в ней не раздражает. А ведь каждое утверждение в ней — ложь. Ну, или недомыслие.
Миша Вербицкий писал когда-то: гуманитарии не думают, а подбирают слова. Если слово кажется им подходящим к ситуации, они его используют и подбирают следующее. Образовавшаяся цепочка может обладать некоторым смыслом, который и будет «мыслью» гуманитария, с которой он сам с удовольствием познакомится после того, как прочтёт или услышит, что там у него получилось. И, в общем, Вербицкий прав, конечно. Именно так мы и делаем.
Иногда это неплохо. Например, в художественном творчестве. В девяти случаях из десяти высказывание, получившееся само собой, бывает интереснее и лучше взятого из головы, что бы там, в этой голове, ни происходило. А иногда — святых выноси. Вернёмся к приведённой цитате.
Во-первых, качество романов — не редкое. Чехов, Шукшин, Марк Твен, Гашек, Артём Владиславович Рондарев нравятся и интеллектуалам, и широкой публике. Заурядное свойство хорошей литературы. Во-вторых, если под «интеллектуалами» понимать что-то взаправду умное, то Пелевин для них особого интереса не представляет. (Это всё равно что сказать: «Ты чё, братан, интеллектуалы Лепса не слушают! Настоящие интеллектуалы слушают дайрстрейц и пинкфлой»…)
В третьих, что касается «широкой аудитории». Дело в том, что Виктор Олегович Пелевин писатель культовый. Когда словечко «культовый» появилось во второй половине 90-х (до того культовыми были только обряды и сооружения), многим казалось, что оно означает «знаменитый». Хотя на самом деле — всего лишь «почитаемый в определённых кругах». (А вне определённых кругов — нет). И, что характерно, хотя известность Пелевина на протяжении последних двадцати пяти лет неуклонно растёт, культовость его растёт вместе с ней. Всеобщим безусловным литературным авторитетом он не становится.
Возможно, кого-то это удивит, но по тиражам Пелевин сопоставим, например, с Юрием Поляковым. А это значит, что они одинаково известны и любимы. Любимы, кстати, главным образом за юмор. Хотя все — и авторы, и читатели — делают вид, что не за это. Юмор Полякова, по мне, довольно чудовищен. У Пелевина — весьма приемлем. Но это, как говорится, на вкус и цвет. Объективное различие между ними заключается в том, что Поляков — не культовый. Его читатели не испытывают ощущения, что читают «что-то особенное»: умное, философское, многозначительное, масштабно метафоризирующее нашу действительность. (Как люди подсаживаются на ощущение «это что-то особенное», мы подробно рассматривали в статье о Сорокине).
Почему Пелевин, при всех его неоспоримых достоинствах, не перерос свой «культ»? Совсем не потому, что «буддизм». Буддизм наши православные агностики съели бы не задумываясь, как едят они дидактичный либерализм Акунина, притом что сама по себе либеральная идеология среди них крайне непопулярна. Просто большинство читателей реагируют в литературе главным образом не на идеи. Идеи важны в третью очередь. Читатели реагируют на: 1) мимесис (то есть образ действительности: уютен ли тебе изображаемый мир, хотел бы взаправду здесь побывать, осмотреться, пожить?) и 2) социальную проблематику («вот оно, братцы, как в жизни бывает»). А с этим у Пелевина как раз сложности.

Не то чтобы он не умел этого образа действительности создать — просто не ставит перед собой такой задачи. В одном интервью, отвечая на вопрос об экранизациях своих произведений, он сказал следующее: «Фильм по своей природе — это иллюзия событий, происходящих с плотными материальными объектами в физическом пространстве. А у текста таких ограничений нет». Это значит, что предметный космос произведения (всякое там «на стене оглушительно тикали ходики» и «чу, коровушка замычала») он склонен рассматривать скорее как обузу, как дань условности. Ему милей холостяцкий быт — «главное, чтобы было удобно». Социальный мир его произведений нарочито карикатурен, то есть упрощён и схематизирован. Он выполняет служебную функцию: помочь раскрыться идее. В общем, как писал ещё руководитель семинара в Литинституте, где учился Пелевин, «его работы наполнены философией, но эта философия больше основана на его предположениях и наблюдениях, нежели на реальных событиях, которые с ним происходили».
В советское время ему обязательно порекомендовали бы сходить в путину с рыбаками, потереться среди людей на Таёжной Стройке, пожевать верблюжатины в Кара-Кумах, посидеть в пограничном дозоре — в общем, набраться опыта. Хорошо, впрочем, что ничего этого делать Пелевину не пришлось, потому что вряд ли бы из этого что-то вышло. (Вот, скажем, Юрий Трифонов долго жевал верблюжатину, и всё ноль, а расцвёл, когда начал писать о том, что близко, — об интеллигентских кухоньках и гостиных).
Неслучайно Пелевин авторитетен преимущественно у молодёжи — в той среде, «где ум кипит, а сердце немо». Молодые люди (молодые по возрасту или по культурной модели — можно «искать себя» хоть до пятидесяти) не обладают богатым жизненным опытом, а потому не склонны придавать значение обстоятельствам, понимание и чувствование важности которых требует этого опыта. (Ну, типа, «как накормить детей»). Зато в спекулятивном мышлении (то бишь в философствовании) они не ограничены — наоборот, часто испытывают повышенную к нему склонность: юноши обдумывают житьё. Поэтому и в литературе отдают предпочтение всяческой метафизике. Я тоже увлекался Пелевиным, когда мне было двадцать пять лет. Помню, как мы с культовым блогером-атеистом Денисом Яцутко сидели во дворике напротив Ставропольского педуниверситета с потрёханным библиотечным журналом «Знамя» и он читал мне вслух «Жизнь насекомых». Читал взахлёб, как какой-нибудь Некрасов Григоровичу. Ну, или Григорович Некрасову, не упомнишь. Потом…
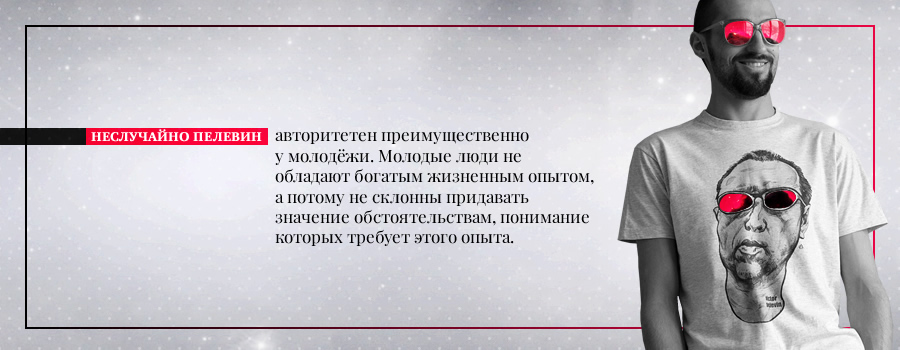
На фото: иллюстратор Александр Андреев в футболке с портретом Пелевина своей работы. Александр не согласен с пассажем выше.
Потом со мной произошла история под условным названием «самое умное место в русской литературе». Этот анекдот, кстати, мне тоже рассказал культовый Денис Яцутко. Возьмём самый философский роман в русской литературе — «Герой нашего времени». Логично предположить, что самое умное место в нём — то, в котором беседуют два самых умных его персонажа. То есть Печорин и доктор Вернер. Такой эпизод в романе есть. Выглядит он следующим образом. Печорин лежит на диване. Входит Вернер, жалуется на жару. Печорин говорит, что ему досаждают мухи. Некоторое время они молчат. Потом Печорин говорит следующее:
«Посмотрите, вот нас двое умных людей; мы знаем заранее, что обо всем можно спорить до бесконечности, и потому не спорим; мы знаем почти все сокровенные мысли друг друга; одно слово — для нас целая история; видим зерно каждого нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное нам смешно, смешное грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя. Итак, размена чувств и мыслей между нами не может быть: мы знаем один о другом все, что хотим знать, и знать больше не хотим. Остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мне какую-нибудь новость».
Выходит, самое умное место в русской литературе посвящено тому, что любая домохозяйка знает без всяких печориных: главное в жизни — это прийти домой, выпустить из усталых рук сумки, рухнуть с телефоном на диван и…
— Привет! Ну чё? Да ты чё!.. А он чё?.. Да ты чё-о-о… А она чё?..
В общем, метафизическая литература стала волновать меня значительно меньше.
Самое умное место в русской литературе живо напоминает мне самое умное место в творчестве Виктора Олеговича Пелевина (понимаю, впрочем, что на этот счёт возможны разные точки зрения). Перескажу своими словами. Пётр Пустота (для простоты будем говорить «Петька») беседует с Василь Иванычем о природе самосознания человека. Василь Иваныч спрашивает, где оно, это самосознание находится.
«Где» — это важный философский вопрос. Обычно философствующие спрашивают «зачем» или «почему», но у Василь Иваныча строгий метод. Чтобы понять вопрос, надо включить в него вопрошающего. Например, вас спрашивают: «В чём смысл жизни?» Нельзя отвечать сразу — ваш ответ будет понятен вам одному, потому что вы шли к нему одному вам известной дорогой. Вы пока даже вряд ли понимаете, о чём вас спросили, потому что спрашивающий тоже шёл к своему вопросу своей дорогой. Поэтому мы делаем «шаг в сторону» и спрашиваем его: «А зачем ты спрашиваешь?» Допустим, спрашивающий говорит: «Да вот, бизнес идёт успешно, а настроение чего-то хреновое». Вы делаете ещё шаг в сторону и спрашиваете: «А зачем ты занимаешься бизнесом?» Допустим, он отвечает: «Надо семью кормить». Тогда вы спрашиваете: «А для чего тебе семья?» Так, шаг за шагом, вы с вашим собеседником вытаптываете окружность вокруг предполагаемого центра — то есть вокруг вопроса и содержащегося в нём ответа. Когда центр обозначен, острота вопроса снимается. В чём бы смысл жизни ни состоял, очевидно, что он находится где-то внутри совместно очерченного вами круга «вопросов о смысле жизни». Можно выйти из него и жить дальше. Говоря в манере Пелевина, мы увидели, что центр вопроса (то есть его суть) находится везде, а сама проблема — нигде.
Итак, Василь Иваныч спрашивает: «Сознание где?»
— Как где… В голове.
— А голова где?
— На мне.
— А ты где?
— На Земле.
— А Земля где?
— Во Вселенной.
— А Вселенная где?
— Ну, как… Вселенная — это понятие такое. Оно в моём сознании.
(Будь Петька умнее, он бы сказал «везде»).
— Так как же ты, дурак, сам у себя в голове находишься?! — срезает его Василь Иваныч. Петька в смущении удаляется и ещё раз прокручивает в голове это герменевтический круг. А дай, думает, я Василь Иваныча самого по нему пущу — как он выкрутится? Возвращается к Василь Иванычу:
— Василь Иваныч! Вот вы лошадку расчёсываете… А лошадь — она где?
— Да ты, Петька, никак рехнулся? Вот же она!..
Конец истории.

Мораль можно выразить, перефразировав бессмертную строчку Дмитрия Алексаныча Пригова:
«Жизнь кратка, а мышленье долго, и в схватке побеждает жизнь».
Может быть и наоборот: жизнь долга, а мышленье кратко — жизнь всё равно побеждает. Разве это не похоже на «самое умное место в русской литературе»? (И неудивительно, ведь Пелевин где? — в ней). Бытовой, житейский подход к явлениям действительности оказывается сильнее метафизики. Сильнее как в самой жизни (философы заканчиваются там, где начинаются продавщицы и трамвайные контролёры), так и в искусстве: чем дальше оно от проблематики a la «жизнь есть сон», чем ближе к насущным вопросам, тем сильнее его воздействие на людей.
Не исключено, что по количеству и «качеству» (то есть неординарности) философской мысли Пелевин превосходит Толстого, но толстовская обыденная проблематика (муж разлюбил жену, жена изменила мужу — все люди, всем надо Новый год встречать) превращает его в мыслителя, по сравнению с которым Пелевин кажется философствующей канарейкой.
Чтобы лучше понять явление, нужно очистить его от примесей, убрать лишнее. Например: песня — музыкальный жанр, поэтому чтобы понять, хороша ли песня, нужно слушать её без слов. Кино — визуальный жанр, а потому его нужно смотреть без звука — хороши ли. Сразу всё как на ладони: раскадровка, монтаж, игра актёров. Чтобы понять, какой писатель Пелевин, нужно отнять от него философию и буддизм.
В литературе был уже один знаменитый «писатель-буддист» — Сэлинджер. Однако его можно читать вовсе не догадываясь об этом. Почему Симор покончил с собой во время медового месяца, или почему у Френни прекратилась депрессия, когда Зуи сказал ей, что Бог — это Толстая Тётя, — до всего этого можно дойти без буддизма, опираясь исключительно на житейский опыт. Это потому, что Сэлинджер писал о людях, то есть о «лошади», которая «вот она». Пелевин же пишет о Великом Ничто, находящемся в его голове, то есть как бы везде, а на самом деле нигде. Поэтому, если вычесть из пелевинских книг буддизм, останется фельетон. Жанр искусный (и Пелевин в нём — первый), но при этом довольно низкий. «Эстрада». Утром в газете, вечером в куплете.
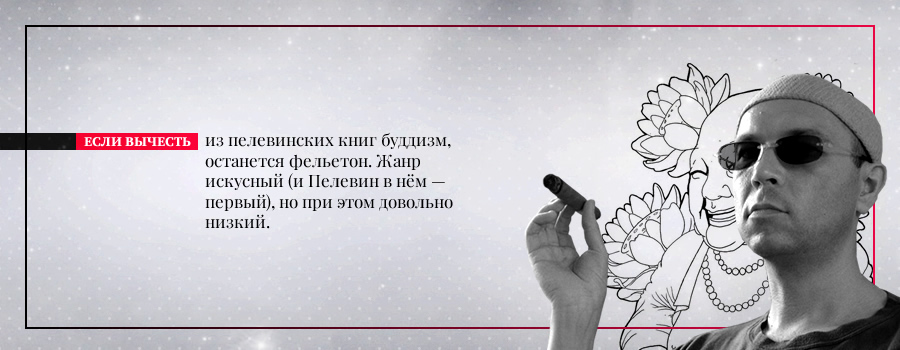
Однажды, когда Пелевина спросили, почему он стал буддистом, он ответил так: «Буддизм казался мне единственной религией, которая не похожа на проекцию Советской власти в духовной сфере. Позже я осознал, что всё было наоборот — Советская власть была попыткой проекции божественного порядка на земле. Буддизм был абсолютно вне этого порочного круга, и в нём было что-то настолько странно захватывающее и одновременно успокаивающее».
«Захватывающее и успокаивающее» — как это похоже то чувство, которое испытал я в пятнадцать лет, прочтя книжку Клиффорда Саймака «Кольцо вокруг Солнца». Там, короче, надо было раскрутить окрашенный по спирали детский волчок и внимательно смотреть, как полосочки на нём появляются ниоткуда и уходят никуда. И думать о том, куда это они никуда уходят. И тогда обязательно перенесёшься в параллельный мир — настоящий, не обезображенный тяготами цивилизации (к главным из которых я справедливо относил школу), с прериями, бизонами, девственными вековыми лесами и хрустальными ручейками в них. И там жить.
Впрочем, не все могли перенестись — только особые люди, в повести их называли «мутанты», но мне-то сразу стало понятно, что я один из таких. Дочитав книжку, я ошалело смотрел по сторонам и не узнавал окружающей меня комнаты. Как смешно, как мелко казалось всё кругом! Всё мои тревоги отступили, стали ненастоящими — вместе с ненастоящим миром. Ха!.. Дурачьё… Думают, что могут достать меня своими контрольными! Тогда как вон оно, как на самом деле устроено!
Юлу я крутить не стал (может и зря), но к миру социального бремени и ответственности стал с тех пор относиться с величайшим презрением, и много было нервных клеток потрачено (к сожалению, не только моих), чтоб хоть чуточку, годам к сорока, это поправить.
Эскапизм это по-научному называется. Он ведь бывает не только пассивным — «эскапизм жертвы», но и наглым, самодовольным, агрессивным и героическим: эскапизм путешественников вокруг света и альпинистов, учёных, расковыривающих ядро протона, философов и всяких там неприспособленных к жизни гениальных поэтов.
А помните, в статье о Сорокине я цитировал: «Пока пишу — всё нормально, а как поднимешь голову от листа, такая тоска накатывает»? То же самое. Неслучайно Сорокин и Пелевин словно бы идут рука об руку, их часто вспоминают через запятую. Их представления о мире соревнуются с реальностью этого мира и одерживают победу. Сорокину можно то, чего мир не может себе позволить (или не может признаться себе, что может), а Пелевин и вовсе считает его несуществующим.
Несомненно, почитание Сорокина и Пелевина есть признак инфантилизма поколения, и бла, бла, бла. Что-то есть в увлечённости ими от увлечённости жанром фэнтези, бла, бла, бла. Да на них пахать надо, а книжки пустить на портянки для ребят!
(Кстати, только сейчас дошло, что «ребята» из процитированного стихотворения Блока «Двенадцать» — это никакие не дети, как я всегда почему-то считал, а гопота из красногвардейского отряда).
В общем, резюме: хороший Пелевин мужик, но не орёл. И как ему орлом становиться — непонятно. В детстве, в семидесятые годы, мне очень нравился Джон Лорд из группы Deep Purple — с прямой чёлочкой и усами. (Тоже хотелось такую чёлочку и усы). Он кроме группы играл ещё в церкви на органе. Во вступлении к песне Speed King это слышно. Потом повзрослел, состарился и стал играть совсем другую музыку. Не дыдыщь, а что-то такое сложное, слащавое, симфоническое. И хорошо, я считаю. Рокеры, играющие тыдыщь при седых мудях, жалки. Всё хорошо, кроме одного «но»: лёгкая музычка, которой он прославился в молодости, всё-таки имеет гораздо больше касательства до сокровищницы мировой музыкальной культуры, чем серьёзная музыка, которую он играл в зрелом возрасте.
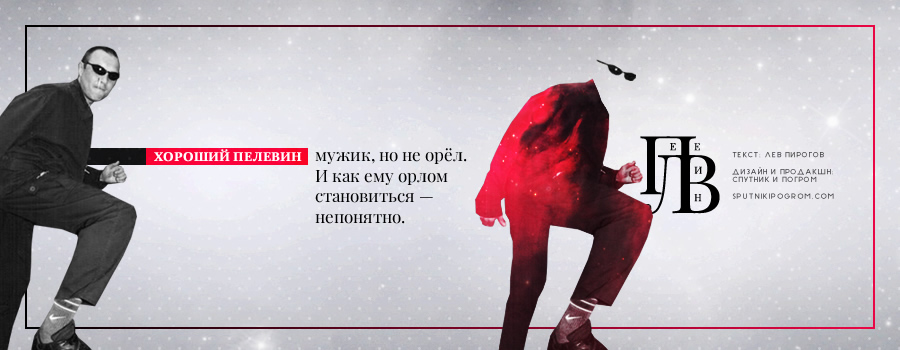
Что ли вообще надо было в монастырь уйти?
Сэлинджер ушёл, кстати…
Вот такой парадокс Пелевина, нашего ярчайшего из несерьёзных писателей.
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!



















