«Владимирский централ, ветер северный»
Артем Рондарев о сокровенном

Итак, в рамках набирающей в нашем обществе обороты тенденции, которую можно было бы назвать «новой народностью», мы сегодня поговорим о русском шансоне и его ярчайшем представителе Михаиле Круге. Сразу предупреждаю, что интеллектуальными пируэтами в духе журнала «Афиша» времён её расцвета я заниматься тут не буду: русский шансон – это дно, этическое и эстетическое, и люди, которые его слушают, заслуживают большего (если это, конечно, не читатели журнала «Афиша»); но хочется попытаться понять, отчего они слушают именно его.
о поводу русского шансона (я дальше не буду оговариваться и стану писать просто «шансон») существует несколько стереотипов. Как и все стереотипы, они практически полностью ошибочны. Во-первых, совершенно безосновательно считается, что это «народная» музыка. Меж тем по всем формальным признакам шансон – музыка вовсе не народная, а эстрадная: здесь характерный эстрадный песенный формат, здесь важно авторство, шансон напрочь лишен какой-либо артикулированной мелодической традиции, а артисты его живут по законам концертных организаций. Более того, в шансоне далеко не три аккорда, это целая индустрия, которую во многом обслуживают профессиональные композиторы, и хотя приз конкурса «Шансон года» представляет из себя гитарный гриф, сама акустическая гитара, строго говоря, в шансоне занимает весьма скромное место, подлинным его героем являются клавиши. А гитара – это как раз и есть очевидный маркетинговый ход с тем, чтобы придать этому жанру облик «народности». Да, Володя и Розенбаум играли на гитаре, ну так мало ли кто на ней еще играл; зато подлинные герои и предтечи шансона – Северный, Пётр Лещенко и, наконец, Вертинский – с гитарой не так чтобы часто общались.

Во-вторых, не менее безосновательно считается, что шансон – это синоним «блатняка». Это чушь. Блатная песня, то есть наследие куплетистов и городского сиротского романса, давно уже в такой синкретической стилистике, как русский шансон, занимает даже не самое почетное место – на фестивалях русского шансона можно слышать вперемежку самые разные в стилистическом плане номера, в диапазоне от бардовской песни до поп-джаза. Шансон уже лет двадцать как umbrella term, соединяющий в себе стили, в которых играются «простые мелодичные искренние песни»; что на самом деле объединяет их все – я скажу позже.
Это, строго говоря, полный вздор. Если попытаться рассмотреть русский шансон в диахронии, то могут выясниться вещи довольно-таки грустные: шансон предстанет здесь как логичное, хотя и экстремальное, звено в цепочке преемственностей, обусловленных тем простым фактом, что в европейской музыкальной традиции (современная политкорректность диктует тут еще и слово «белой») вообще все очень печально с популярной музыкой (понимая тут под популярной музыкой музыку доступную и обладающую сугубо утилитарной функцией развлечения и сопровождения социальных мероприятий). Попросту говоря, та музыкальная традиция, что ранее называлась «низкой», а после получила уклончивое определение «лёгкой», в рафинированной европейской культуре представлена на редкость «нетанцевальными» образцами. Максимум свободы (и максимум народности) европейскому человеку предоставил вальс, танец в высшей степени размеренный, благонамеренный и однообразный (несмотря на то, что когда-то был синонимом разврата): и обратите внимание, что вальс написан в трехдольном метре, то есть в метре, статистически менее характерном для высокой европейской традиции, базирующейся на метрах двудольных. То есть тут уже как бы можно выудить первую причину, по которой в европейской парадигме с «простой» музыкой все плохо, – это совершенно иное, нежели в других традициях, не-функциональное представление Европы о метроритме.
Тут не хочется устраивать лихой газетный наскок на всю историю музыки разом и делать широкие обобщения, но одно обобщение не требует каких-то особенных усилий, оно на поверхности – христианская европейская культура последовательно, в первую очередь с помощью схоластики, изгоняла из перенятой у античности музыки все функции, кроме функции прославления Бога (интересующихся данным вопросом можно отослать к трудам Боэция, Гвидо Аретинского и Аврелиана из Реоме, или же, если угодно, для более современного обобщения – к незаконченному тексту Макса Вебера «Рациональные и социологические основания музыки»). Социализация человека через музыку в европейской традиции долгое время происходила в церкви, там не попляшешь, – в первую очередь в силу того, что социализация эта была направлена не на привлечение представления о радостях жизни, а напротив, занималась доказательством того, что жизнь земная не стоит радости; поэтому когда музыка наконец стала светской, она уже несла на ногах неодолимые вериги сугубо ритуального, «высокого» своего значения (характерно в этом смысле, что представление о «народных корнях музыки» в европейской традиции проявляется очень поздно, в эпоху Рамо и Гайдна, и получает легитимность лишь с расцветом романтизма, вспомните диалог Моцарта и Сальери по поводу скрыпача слепого). Из этого много что проистекло, но нам важно лишь одно: из этого проистекла ритмическая трусость и консервативность европейского музыкального мышления. Ритм в европейской музыке, в общем-то, подчинен одной задаче – задаче упорядочивания логического высказывания, содержащегося в музыкальном произведении; ритм в европейской музыке – это риторический троп, а не временная и тем более не физическая функция.
Тут, разумеется, важно понять, что речь идет не о народной, а об ученой европейской музыкальной традиции, ибо именно ей наследует европейская и даже во многом американская эстрада. Биг-бэнды, например, появились на свет как контрреволюция профессиональных музыкантов, желавших облагородить – то есть европеизировать – черный (стало быть, обладающий отрицательными социальными коннотациями) джаз. Проблема в том, что до изобретения средств фиксирования и тиражирования музыкального материала тон задавала музыка, способная быть записанной нотным текстом (именно по этой причине нам ничего не известно о ранних формах блюза, например. И это притом что дело он не таких уж отдаленных дней: когда блюз уже вовсю был, никому не приходило в голову его нотировать, и работать с ним стал впервые только Джон Ломакс с фонографом в руках). То есть несмотря на существование народной музыки (и, например, как в случае с условно «испанской» музыкой, в ритмическом плане весьма изощренной), мейнстримную музыкальную традицию (в том числе традицию «легкой музыки) определяла не она – и вышло то, что вышло. Недаром, когда Стравинский пытается записать простенькую народную песню, которую поет крестьянка, он внезапно сталкивается с тем, что не может этого сделать именно в силу непонятного ему метра, и вынужден возиться несколько дней, использовать неканонические способы записи метроритма и в итоге произвести из этого опыта все свое революционное представление о полиритмии и переменном метре, которое потом выливается в «Весну священную».
Понятно, наверное, куда я клоню. Шансон, по сути дела, – это результат существования низовой поп-музыки в белой европейской парадигме без какой-либо возможности повстречаться с облагораживающим влиянием иных народных культур. Нет у нас тут ни негров, ни индейцев, ни латинос. Не завезли, и даже пригласить их было неоткуда. Некому придумать танго, некому придумать блюз. Танцуем как умеем.
Важно тут, однако, то, что ежели бы точно так же была изолирована Европа, там дело бы обстояло ровно тем же образом: европейские эстрадные (и полуэстрадные) жанры, не «проинформированные» джазом и ритм-энд-блюзом о существовании танцевального метроритма, выглядят немногим лучше
Дело не в русских, дело в том, что white men can’t jump, причем обусловлено это не какими-то дикими «центрами ритма в мозгу», которые до сих пор ищут нобелевские лауреаты, Катя Мень и Дмитрий Ольшанский, а просто историческим модусом существования белой «официальной» музыки. Зато белые люди построили капитализм, многие утешаются этим.
Наконец, разговоры о какой-то особенной предрасположенности русских к тюремной культуре в силу того, что в «СССР каждый второй сидел», тоже не выдерживают никакой критики. Во-первых, сейчас в Америке и Китае сидит (как в абсолютном исчислении, так и в процентном отношении ко всему населению) больше народу, чем когда-либо сидело у нас, и никакого особенного сугубо тюремного жанра ни там, ни там не произведено. Во-вторых, склонность к опоэтизированию криминальной культуры существует всюду: в той же Америке это хип-хоп, на Сицилии – песни про мафию (вот, кстати, это такой шансон, что Катя Огонёк удавилась бы от зависти); в Париже в 20-е годы был, например, популярен танец «апаш», представляющий из себя артистическую интерпретацию криминально-любовной драмы, и так далее.
По сути, в любви к блатной романтике мы всего лишь наследуем СССР, где эта самая «блатная» романтика была единственным доступным видом романтики за пределами официальной романтики труда и коммунистических строек. По той простой причине, что уголовная девиация от официальной линии у нас всегда полагалась «социально близкой» (ибо она не оспаривала догм идеологии, она даже, скорее, им вторила, ее врагом был не собственно социалистический строй, а только лишь конкретные институции государства), она никогда не преследовалась с тем усердием, с которым преследовались все остальные попытки от официальной догмы уклониться.

То есть исторически блатная романтика закрепилась в нашем обществе не из-за какой-то мифической склонности к ней советского (и русского) человека, а оттого, что никакой другой не-догматической романтики у нас в обществе просто не было. В советское время у обычного человека было два варианта развлечься: включить по ящику какой-нибудь концерт к Дню милиции и выслушать опять, заново, весь скудный набор официально разрешенных музыкальных форм, или же воткнуть кассету и послушать про вольницу, жиганов и лихую жизнь, притом что материал этот был изложен не-ортодоксальным, не-советским образом. Понятно, что выбирал советский, замотанный и забитый догмами человек. Дело даже не в том, что ему весь этот шансон как-то особенно нравился и был близок душевно. Дело в том, что он был хотя бы «другой», новый. Поэтому его слушали все – от шоферов до профессоров (сам знал таких профессоров); поэтому мы слушаем его до сих пор.
еперь, после этого вынужденно длинного предисловия, перейдем непосредственно к Михаилу Кругу, который, как это знает любой, кто имел хоть какое-то отношение к музыкальному бизнесу нашей страны в 90-х, был самым продаваемым артистом на территории России (за страны СНГ не скажу, но слышал от резидентов, что в Белоруссии он популярен до сих пор).
Доискиваться до причин – почему именно он, а не какой-то другой усатый и видный мужчина – в нашем случае вещь бессмысленная. Это при наличии развитой капиталистической индустрии популярность проектов планируется на годы вперед, и почти всегда можно сказать, почему раскрутился тот или этот (в данном смысле капиталистический способ производства звезд – вещь весьма плановая); в ситуации стихийного «народного» рынка причины успеха полностью разобрать не бывает возможным, ежели у человека не слышен какой-то очевидный талант. Но в шансоне, в силу его музыкальной и лексической примитивности, талант особенной роли не играет. Роль играет, скорее, чисто личное, биографическое и интонационное обаяние (поэтому популярен был Северный, поэтому стал популярен Розенбаум). Но в случае с Кругом примечательно то, что по всем этим параметрам человек он исключительно средний. Самый яркий эпизод его биографии – это, собственно, его смерть: он был застрелен дома, в Твери, во время грабительского налета и умер в больнице 1 июля 2002 года, и братва до сих пор выясняет, какая падла это сделала, и показывает следователям места захоронения предполагаемых убийц Круга, откуда выкапываются, к сожалению, пока только безмолвные, плохо атрибутируемые скелеты.
Всё остальное в нем очень скучно: родился он в том же Калинине Михаилом Воробьевым в семье инженера и бухгалтера, занимался спортом, учился в музыкалке на баяниста, но бросил, слушал Высоцкого, выучился на автослесаря, сходил в армию, после армии работал водителем молочного грузовика и даже год учился в Политехе. Петь начал с бардовских песен (рупедия сообщает, что первой его известной песней была песня «Про Афганистан»), познакомился с будущей женой, жена взялась за его раскрутку, таки умеренно раскрутила его и помогла ему записать в конце 80-х первые, как это тогда называлось, «магнитоальбомы»: в общем, биография для рубрики газеты МК «Спецовка твоего размера» как она есть.
В тюрьме Круг не сидел ни разу, все его представления о ней – вещь чисто вымышленная или взятая из разговоров с товарищами (он был другом парочки воров в законе), и вот тут напрашивается одна любопытная аналогия, которая нам в дальнейшем очень поможет.
Речь, разумеется, идет о Джонни Кэше, человеке, который в Америке воспринимается как сторонник и защитник всех обездоленных (его биографии написаны характерным «боговдохновенным» языком, каким пишутся биографии подвижников и святых) и известностью своей не в малой степени обязан концертам, которые он давал по тюрьмам, – он пел в Фолсоме, в Сен-Квентине (где матерился так, что звукозаписывающему лейблу пришлось выпускать «очищенное» издание) и даже в шведской тюрьме «Остерокерсансталтен» (Österåkersanstalten), – а также имиджем «нарушителя закона» (outlaw), который в нем (на пару с Уэйлоном Дженингсом, человеком, который должен был лететь на одном самолете с Бадди Холли, но отказался в последний момент) был настолько очевидным, что в итоге привел даже к появлению отдельного жанра outlaw country (история с формированием жанра сложнее, но мы покамест ограничимся этой констатацией).
Так вот, Джонни Кэш тоже никогда не сидел в тюрьме серьезно, лишь несколько (семь) раз попадал на сутки в изолятор за хулиганку. Кэш, несмотря на свой беспутный образ жизни, никогда не был особенным бунтарем, в середине жизни сделался убежденным христианином (с мистическим опытом прозрения), а под конец только и делал, что порицал свои наклонности ранней юности и отговаривал молодежь брать с него пример.
опоставление шансона и кантри – вещь популярная и, что называется, лежащая на поверхности: и там, и там речь часто идет об уголовниках, о трудной их жизни, кантри, как и шансон, часто злоупотребляет образом Мамы (правда, в кантри Мама – это не носитель любви и духовности, а почти всегда жертва обстоятельств, каковыми обстоятельствами является, разумеется, ее муж, бросивший ее с детьми и вынудивший ее по этому поводу work her fingers to the bone). Кантри, как и шансон, – музыка исключительно сентиментальная, ритмически примитивная и недаром поэтому послужившая, как сейчас принято говорить, прекурсором рок-н-ролла: без ее опрощающего влияния черные ритмические схемы не нашли бы у белого человека должного отклика.

Но самое интересное тут не эти очевидные технические сходства, а аудитория: кантри в Америке слушают стереотипические реднеки-консерваторы (Джордж Буш-младший, например, горячий поклонник), то есть категория населения не просто консервативная, а консервативная до шовинизма и расизма. Плюс, разумеется, весь набор социального ханжества: ксенофобия, гомофобия (к слову сказать, в американских тюрьмах мужеложство так же распространено, как и в наших, а «петух» в американских тюрьмах в 60-70-е годы назвался punk), патриотизм, Джизус и традиционные ценности.
Ничего не напоминает?
Именно, это в чистом виде аудитория русского шансона.
принципе, если заняться оценкой идеологии аудиторий той или иной музыкальной (суб)культуры, то очень скоро выяснится вещь парадоксальная: почти все жанры, проповедующие трансгрессию и ту или иную форму социальной девиации, окажутся востребованными в первую очередь в среде консервативной публики. Это хип-хоп, где консервативность консьюмеристская, это металл (блэк-металисты все сплошь расисты, антикоммунисты, и антихристианство у них ультраправое), это, собственно, шансон и кантри; если мы подкинем сюда скинхедов, слушающих тоже далеко не травоядную музыку, то ситуация выйдет за пределы чисто статистического совпадения.
Тут нужно сразу сделать одно уточнение: панк, например, тоже проповедует трансгрессию, оставаясь при этом в целом левым видом искусства. Разница между панком и металлом или там кантри, собственно, одна-единственная: панк проповедует трансгрессию, опираясь на представление о социальных классах, тогда как металл, кантри и шансон с сочувствием рассказывают о трансгрессии личной или же трансгрессии малой группы (т.е. «пацаны», «братва» или «худ»).
Если проще: консервативная публика с удовольствием слушает про отпадение от социума до тех пор, пока это отпадение не пытается покуситься на господствующую идеологическую догму. Точно так же, как и в СССР, во всех других странах мира консерватизм разрешает шалить только социально близким. Что не должно удивлять совершенно: строго говоря, правая, или консервативная идеология – это идеология, направленная на поддержание status quo. Она готова терпеть девиации только до тех пор, пока эти девиации не бросают вызов социальному и идеологическому status quo. Более того, подобные не покушающиеся на основы девиации консерватизм не просто терпит – он их поддерживает и во многом вдохновляет. Потому что они предоставляют в целом принципиально размеренной (status quo же) жизни необходимый уровень возбуждения, то, что в английском называется исчерпывающим словом excitement.
аким образом, между консервативно настроенным Джонни Кэшем и Михаилом Кругом, знаменитым своим патриотизмом, монархизмом, гомофобией, мизогинией, домостроем и, в общем, всем этим стандартным набором русского мужчины-традиционалиста (что привело его закономерно к должности помощника по культуре Жириновского), выстраивается довольно логичная связь. Кэш, разумеется, не был настолько примитивен (да и вообще, судя по воспоминаниям, человек был скорее хороший), но рациональное ядро здесь одно: традиционализм, вовне оборачивающийся исполнением «простых», «доступных», «правдивых» песен, с подчеркнутой интимной искренностью вещающих о том, что в традиционализме полагается главным – о семье, матери и Боге. Эта тематика, кстати, убивает на корню часто сейчас звучащую теорию о том, что нужно же, дескать, «простым людям» тоже иметь свою музыку, музыку, которая будет рассказывать им об их жизни привычными словами: любой, кто хоть пару раз в жизни выходил на улицу и общался там с людьми, прекрасно знает, что ни о матери, ни о, тем паче, Боге, «простой человек» не разговаривает, за вычетом тех случаев, когда матери надо скинуть на выходные внука и проклясть Гейропу за то, что она забыла Бога. Шансон не поет о том, что важно для «простого человека», он поет о том, что, с точки зрения традиционализма, должно быть ему важно (именно этим объясняется тот ставящий в тупик многих факт, что блатные так любят песни про честность, братство и взаимопомощь, то есть про вещи, которыми блатная среда, прямо скажем, небогата); шансон это нормирующая социальная практика, и полагать его «голосом самовыражения народа» можно разве что в рамках интеллектуальной полемики «о народе».
Понятие шансона недаром ныне вобрало в себя и традиционную советскую эстрадную песню, особенно ту, что с «народным уклоном» (регулярными участниками шансонных мероприятий являются Бабкина и Кадышева), и бардовскую песню (Юлий Ким, например, пишет ныне мюзиклы про Мишку Япончика, которые пиарит «Радио Шансон», а Михаилу Кругу, как гласит легенда, путевку в жизнь выдал Владимир Клячкин), и примитивный девичий попс (ироническим представителем которого являются «Воровайки»), и даже, что особенно характерно, часть русского рока («артистами «Радио «Шансон», например, на официальном сайте радиостанции названы Шевчук и Земфира). Сам по себе шансон недаром является любимой музыкой нашей партии власти, которая под своей эгидой все норовит провести какой-нибудь фестиваль блатной песни. Шансон, будучи, как я уже упоминал, umbrella term, вобрал в себя все те музыкальные формы, которые прямо апеллируют к консервативному мировоззрению, определяемому как всемерная поддержка существующего status quo. В рамках этого мировоззрения могут быть кое-какие люфты – так, в нем могут сосуществовать как убежденные сталинисты и сторонники СССР, так и не менее убежденные антикоммунисты и монархисты, но в целом это весьма монолитное мировоззрение, полагающее самым фундаментальным злом любого рода изменения, а своих главных врагов видящее в людях, которые эти изменения призывают. Подобное мировоззрение вообще характерно для мейнстримной поп-культуры – недаром она считается одним из самых мощных нормирующих инструментов господствующей идеологии еще со времен Франкфуртской школы; и недаром Арам Ашотович Габрелянов рассказывал в свое время, что самым лояльным союзником любого существующего режима являются газеты таблоидного формата.
Разумеется, такому мировоззрению, склонному к статике, умеренности и золотой середине, нужен свой герой, свой Чичиков, если хотите. И оно недаром выбирает абсолютно пресного, скучного, зато основательного и видного человека по имени Михаил Круг.
Человека, на которого нет какого-то особенного досье (не сидел, не грабил).
Человека, у которого в меру мужественный, «розенбаумовский» голос.

Человека, явно не похожего на еврея (в дискурсе шансона, очень сильно завязанного на клезмер и одесский юмор, это важно, в силу чего на роль «короля шансона» не попал невероятно популярный Шуфутинский, по всем остальным статям подходящий идеально).
Солидного, толстого, прочно стоящего на своих ногах мужчину, не хватающего с неба лишних звезд, зато поющего всем понятные, простые, красивые песни про любовь, родину, маму и воров, то есть несчастных, оступившихся в силу обстоятельств людей, которые в душе все хорошие, за родину и порядок, против негров, очкариков, геев и слишком много о себе мнящих женщин, которые хочут растоптать наш традиционный уклад.
Разумеется, это все должно озвучивать среднее арифметическое производное от традиционализма. Которым и был Михаил Круг.
Вообще, это практически универсальный рецепт успеха: быть средним арифметическим от традиционализма. Для воплощения этого рецепта в жизнь даже не нужно быть талантливым в той области, где вы подвизаетесь; единственная проблема – для успешного воплощения нужно обладать соответствующей внешностью и габитусом, а это не каждому дано: то есть тоже талант своего рода. Но если вы им уже обладаете – остальное дело небольших усилий.
ансон, разумеется, чувствуя свою преемственность от СССР, постоянно пытается «цивилизоваться», уйти от ссылок на маргинальные корни своего существования: Стас Михайлов и Лепс, которые сменили сомнительный шарм куплетиста на гламур певца дорогого ресторана, сделали довольно много для того, чтобы придать своему жанру респектабельности; более того, у них это получилось, еще лет через пять их связь и ассоциация с шансоном распадутся окончательно, и они выделятся в отдельный жанр – а именно собственно эстрадный жанр, то есть жанр, обслуживающий респектабельных буржуа и мещан, укорененных в быте уже настолько, что они могут себе позволить абстрагироваться от патриотизма и семейных ценностей; сейчас пока этим мероприятием занята пугачевская свита, и у нее это получается все хуже и хуже, так что лет через пять весь этот пугачевский цирк (нарушающий общественные табу на гомосексуализм и роскошь) публика с облегчением вынесет в мусор и заменит «настоящими мужиками» Лепсом и Михайловым. Слушать их станет совсем иная аудитория, нежели поклонники Михаила Круга, или, точнее, нынешняя аудитория Михаила Круга выделит из себя свою более респектабельную часть – столичное мещанство, женщин, которым не надо срочно искать мужа, и так далее, – и эта часть разорвет все связи с бывшими своими соратниками по вкусу. До этого, впрочем, еще нужно дожить.
о есть, действительно, одна национальная особенность, которая делает русский шансон особенно вездесущим, даже по сравнению с кантри, а разговоры о нем заряжает определенным градусом нервозности как со стороны его поклонников, так и со стороны тех, кто его искренне ненавидит.
Шансон, при всей его примитивности, – крайне непрактичная музыка: под него очень сложно танцевать (если, конечно, не делать это как Дмитрий Медведев), под него не очень уютно есть, так как он все время слезливо лезет в душу с Мамой, Родиной и духовностью, под него, по большому счету, можно только бухать и лапать девиц, но это можно делать подо что угодно. Проще говоря, будучи первостатейной дрянью, шансон при этом обладает всеми признаками концертного, предназначенного для внимательного прослушивания искусства. И совершенно неслучайно.
Идея в том, что наш человек, воспитанный в европейской парадигме, где музыка предстает занятием высоким и почти никогда не рассматривается как служебное оформление для социальных практик (что, например, было очевидно для черных сообществ в Америке начала прошлого века), неизбежно придет к поиску в музыке рационально интерпретируемого и при этом исключительно сентиментального, апеллирующего к эмоциям смысла, – ведь ему надо чем-то оправдать представление о «высоком», трансцендентном назначении музыки. Таким образом, доступное ему искусство (в нашем случае – шансон) такой человек всегда будет воспринимать именно как искусство, и притом будет стремиться назначить его искусством высоким: ему это нужно для того, чтобы сделать свою жизнь (о которой, по распространенному мифу, шансон и поет) причастной высокому.
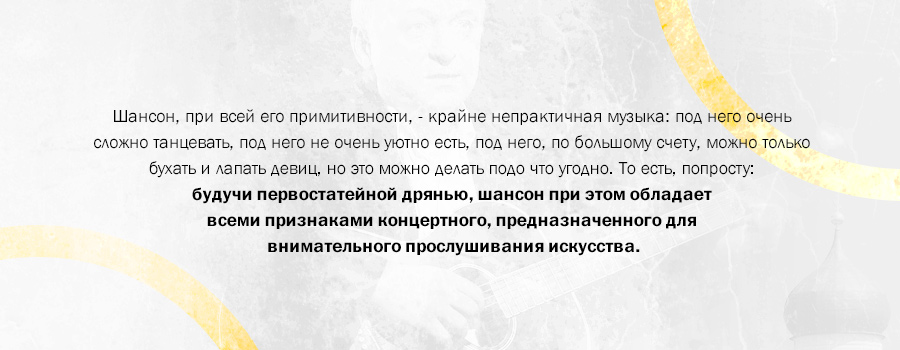
Не зная и не умея определить для искусства иных назначений, кроме как назначения отражать и возвышать через это отражение жизнь, не умея музыкой пользоваться, такой человек неизбежно будет ее фетишизировать, превращать ее в статусный объект и с его помощью возвышать свою жизнь, попутно, разумеется, смиряясь с нею, так как жизнь, пройдя через линзу «высокого искусства», сама становится объектом и фетишем, который нельзя даже пытаться менять, не рискуя при этом утратить ее цельность, тотальность и, таким образом, разбить объект, повредить его и потерять с этим всю рыночную его стоимость. Непрактичность шансона очень хорошо работает на это состояние: так как с этой штукой ничего нельзя сделать, остается на нее только пыриться, как на картину в Лувре.
То есть смысл в том, что пока у нас музыкальное воспитание не станет повседневностью, пока дети с малых лет не будут привыкать к тому, что музыка – это вещь простая и очень удобная, что на нее не надо смотреть снизу вверх, что ей надо пользоваться – мы будем иметь шансон: шансон – это отражение в кривом зеркале чисто иерархического (и в этом смысле очень буржуазного) представления об искусстве. Поэтому когда вы с придыханием говорите о Культуре, о Красоте, когда при вас нельзя Пушкина назвать иначе как по имени-отчеству, а БГ у вас гений и бог, которого нельзя лапать грязными пальцами, – имейте в виду: помимо прочего, вы питаете жизнью шансон. Он стоит на плечах вашего снобизма.
Я уже как-то упоминал (ссылаясь на Терри Иглтона), что для человека естественным является превращение всех объектов и явлений мира в искусство; собственно, это-то и представляет проблему в ситуации, когда искусство существует как модель лучшего мира, как оторванная (не по тематике, а по способу существования) от быта и жизни в целом самодостаточно непрактичная практика. Превращая объекты и явления в искусство, человек в этой парадигме умерщвляет то и другое, насаживает, как бабочку на булавку, чтобы поместить в коллекцию. Вообразите себе, что у вас в доме среди чашек внезапно нашлась чашка раритетная, из которой пила царица Екатерина, чашка, при виде которой у знатоков трясутся от волнения руки. Будете вы ей пользоваться? Да ни за что, вы тут же из нее выплеснете чай, отдраите ее, сунете под стекло и станете показывать гостям, что вот же какая у вас Красивая и Древняя штука есть. А ведь еще вчера эта была ваша любимая, очень удобная и функциональная чашка.
И чем больше искусство таким образом вторгается в жизнь, чем больше оно места в нем занимает, – тем больше в жизни становится мертвых вещей. Таких, в том числе, как русский шансон.
Перед искусством не должно быть пиетета. Искусство должно быть повседневностью. Иначе мы раз за разом будем получать на выходе Михаила Круга.
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!









