Антология белогвардейских воспоминаний
часть III (со ссылками на книги!)
Ранее: часть вторая

Часть III
«Записки добровольца» — «На Москву» — «Очерки русской смуты» — «Первые четырнадцать лет» — «Плен» — «Походы и кони»
«Записки добровольца»
Сергей Эфрон
Бури-вьюги, вихры-ветры вас взлелеяли,
А останетесь вы в песне — белы-лебеди!
(Цветаева)
ергей Яковлевич Эфрон (1893–1941) родился в Москве в семье русской дворянки Елизаветы Дурново и виленского еврея Якова Эфрона. Где мог образоваться столь необычный для конца XIX века союз? Конечно, в революционном кружке. Оба родителя нашего героя были народовольцами пошиба самого беспокойного: «Земля и Воля», «Черный передел», суды, ссылки, эмиграция. Фамилия Дурново несколько раз выручала мать Эфрона, но так или иначе значительную часть своей жизни она провела под надзором и заграницей. Долгое время Елизавета имела доступ к иностранным счетам своей состоятельной семьи (браво!), впрочем, и без них народовольческая и позднее эсеровская эмиграция жили безбедно. В 1890-е годы семья жила в России довольно мирно, но после первой революции Елизавета, участвовавшая в «работе» партии эсеров, снова оказалась под следствием. Вместе с мужем она бежала в Париж, где покончила с собой в 1910 году. Якова Эфрона к этому моменту в живых не было уже больше года — он скончался в Париже в возрасте 39 лет в 1909 году. Так Сергей Эфрон остался один. Дочь Эфрона позднее вспоминала:
…Подростком Сережа заболел туберкулезом; болезнь и тоска по матери сжигали его; смерть ее долго скрывали от него, боясь взрыва отчаянья; узнав — он смолчал. Горе было больше слез и слов. В годы своего отроческого и юношеского становления он, будучи, казалось бы, общительным и открытым, оставался внутренне глубоко смятенным и глубоко одиноким…
В 19 лет, в 1912 году, Эфрон женится на Марине Цветаевой. Учился в Московском университете, писал рассказы… Великая война резко повернула жизнь Сергея, причем в русло совершенно неожиданное для рефлексирующего московского интеллигента. Эфрон оказался поглощен патриотической волной.
Началось все с санитарного поезда № 187, из которого Эфрон выгружал раненых долгие 18 месяцев 1914-1915 годов. Своей сестре он писал в это время:
«Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером и был момент, когда я чуть было не ушел…
…Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти. Убийство на войне меня сейчас совсем не пугает, несмотря на то, что вижу ежедневно и умирающих и раненых…».

 Капитан Марковского полка Сергей Эфрон
Капитан Марковского полка Сергей ЭфронЭфрон писал, что ему «неловко от мизерного братства». В последний год, самый тяжелый, когда медицинские комиссии уже более благосклонно смотрели на признанных негодными, он ушел в Петергофскую школу прапорщиков. Эфрон был направлен младшим офицером в 56-й запасной пехотный полк. Это уже были дни расхристанной революционной армии. «Не дам себя на съедение тыловых солдат», — писал Эфрон в письме. На поля Великой войны прапорщик Эфрон не попал, но началась война другая, куда более страшная.
Сергей участвовал в «восстании юнкеров» — октябрьских столкновениях с красногвардейцами в Москве. Бои в городе — артиллерийский огонь, треск пулеметов — стали первыми в его жизни. Он писал в воспоминаниях о тех днях:
…У меня от усталости и бессонных ночей опухли ноги. Пришлось распороть сапоги. Нашел чьи-то калоши и теперь шлепаю в них, поминутно теряя то одну, то другую…
…шрапнели непрерывно разрываются над крышей и над окнами верхнего этажа, в котором расположены наши роты…Большая часть стекол перебита…
…Мне шепотом передают, что патроны на исходе. И все передают эту новость шепотом, хотя и до этого было ясно, что патроны кончаются… Нет, кажется, чердака, с которого бы нас не обстреливали. Училищный лазарет уже не может вместить раненых. Окрестные лазареты также начинают заполняться…
…С каждым часом хуже. Наши пулеметы почти умолкли. Сейчас вернулись со Смоленского рынка. Мы потеряли еще одного…
Трудно поверить, но болезненный, если не сказать тщедушный, робкий и совершенно не воинственный Эфрон с готовностью шагнул в пропасть Гражданской войны. Многие профессиональные солдаты старались уклониться от участия в братоубийстве, а прапорщик с какой-то юной легкостью и беззаботностью поддержал Белую армию. Одним из первых в числе участников московских боев он отправился в Новочеркасск и пошел с армией в пугающую неизвестность: в Ледяной поход, в Донецкий бассейн, в наступление на Орел, в Крым. Он, кажется, и сам был удивлен своим возможностям и силе, своему второму дыханию.
В письме к Волошину в 1918 году Сергей писал:
Не осталось и одной десятой тех, с которыми я вышел из Ростова. Нам пришлось около семисот верст пройти пешком по такой грязи, о которой я не имел до сих пор понятия. Переходы делались громадные — до 65 верст в сутки. И все это я делал, и как делал! Спать приходилось по 3–4 ч. — не раздевались мы три месяца — шли в большевистском кольце — под постоянным артиллерийским обстрелом. За это время было 46 больших боев. У нас израсходовались патроны и снаряды, приходилось и их брать с бою у большевиков…
…Я жив и даже не ранен, — это невероятная удача, потому что от ядра Армии почти ничего не осталось…
 Капитан Марковского полка Сергей Эфрон
Капитан Марковского полка Сергей ЭфронЭфрон служил в 1-м Офицерском генерала Маркова полку (позднее в 3-м полку). Вместе со своей частью эвакуировался в Галлиполи, откуда, как и многие, перебрался в Прагу. Чехия давала неплохие возможности для молодых и перспективных русских, бывших студентов, оторванных войной от профессии и учебы. Эфрон стал студентом философского факультета Пражского университета, членом русской студенческой организации, союза русских писателей и журналистов.
В 20-х годах в эмиграции с Эфроном познакомился один из прошлых наших героев — Роман Гуль. Он оставил такие воспоминания о встрече:
Эфрон был высокий, худой блондин, довольно красивый, с правильными чертами лица и голубыми глазами. Отец его был русский еврей, мать — русская дворянка Дурново. В нем чувствовалось хорошее воспитание, хорошие манеры. Разговор с Эфроном я хорошо помню. Эфрон весь был еще охвачен белой идеей, он служил, не помню уж в каком полку, в Добровольческой армии, кажется, в чине поручика, был до конца на Перекопе. Разговор двух бывших добровольцев был довольно странный. Я в белой идее давно разочаровался и говорил о том, что всё было неправильно зачато, вожди армии не сумели сделать ее народной и потому белые и проиграли. Теперь — я был сторонником замирения России. Он наоборот никакого замирения не хотел, говорил, что Белая армия спасла честь России, против чего я не возражал: сам участвовал в спасении чести. Но конечной целью войны должно было быть ведь не спасение чести, а — победа. Ее не было. Эфрон возражал очень страстно, как истый рыцарь Белой Идеи…
Казалось, что Эфрон непоколебим в своей борьбе. Он ведь прошел всю войну в «цветной» части. Эфрон был не просто белогвардейцем, он принадлежал к элите армии и его риторика 20-х годов была под стать положению:
Я был добровольцем с первого дня и, если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем…
Время перевернуло все с ног на голову. Сменовеховец Гуль всю оставшуюся жизнь ни в замирение, ни в СССР не верил, брызжа из Нью-Йорка в адрес всего советского желчью, а «белый рыцарь» Эфрон пошел по обратному пути. Сначала он участвовал в организации «Союза демократических студентов», довольно левого кружка, в 1930-е годы Сергей стал работать в «Союзе возвращения на родину», занимавшимся добровольной репатриацией в советскую Россию. Сам по себе факт работы в «Союзе» уже подразумевал тесное знакомство с коммунистическими спецслужбами, Эфрон стал агентом ОГПУ вполне официально в качестве тайного сотрудника ОГПУ-НКВД «Андреева». Эфрон вербовал эмигрантов, направлял их либо в СССР, либо в испанские интербригады. Есть мнение, что Эфрон причастен к убийству Игнатия Рейса, бежавшего советского разведчика.
Марковец и первопроходник стал советским агентом. Судьба Эфрона в эмиграции, увы, не уникальна. Десятки и сотни бывших офицеров были завербованы советской разведкой, игравшей на патриотических чувствах и бедственном финансовом положении военной эмиграции. В довоенные годы возвращенцами стали: командир марковской дивизии и первопроходник Юрий Гравицкий, дроздовец и командир Самурского полка Дмитрий Житкевич, на советскую разведку работал первопроходник и командир Корниловской дивизии Николай Скоблин. Русский лётчик-ас Лойко, генерал Слащев-Крымский и многие другие вернулись в Россию практически сразу после войны. Сотни непримиримых становились в лучшем случае возвращенцами.
В статье «Эмиграция» в 1925 году Эфрон писал красиво и категорично:
Как рядовому бойцу бывшей Добровольческой армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, может быть, даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины…
Через 12 лет, в конце 1937 года, Эфрон уехал в СССР. Он поселился на правительственной даче в Болшево, наверное, в наивной надежде на тихую и спокойную жизнь. Сергея, конечно, арестовали 10 октября 1939 года. Цветаева, к этому времени также вернувшаяся на Родину, писала в защитном письме на имя наркома Внутренних дел о белогвардейском этапе жизни Эфрона, как о «роковой ошибке»…

Для эмиграции Эфрон стал предателем, для Советской России навсегда остался врагом. В августе 1941 года бывшего капитана офицерского полка расстреляли как врага трудового народа.
В первые годы эмиграции Эфрон активно писал очерки и статьи. Публиковался в сборниках «На чужой стороне» и «Ковчег». Так свет увидели «Октябрь 1917» (о восстании юнкеров), «Тиф», «Тыл», «Эмиграция»… Все его работы посвящены идее добровольчества, истории и будущему Белого движения.
Возможно, Эфрон хотел издать полноценную книгу воспоминаний, но до нас дошли только фрагменты — «Октябрь», «Декабрь», «Перекоп» (последняя глава стала основой поэмы Цветаевой «Перекоп»). Вместе они были опубликованы уже в России под общей обложкой «Записки добровольца» в 1998 году.
«Записки» собрали литературные работы Эфрона, относящиеся к середине 1920-х годов. В это время он оставался еще идейным белогвардейцем, хранителем добровольческого духа и «рыцарем Белой идеи».
…В моей комнате, кроме Гольцева, помещается тихий молодой полковник артиллерист Миончинский (впоследствии к-р Марковской батареи, убит под Шишкиным Ставропольской губ.), неразлучная пара однополчан — капитан, с пятью нашивками ранений на рукаве, и поручик (оба пропали без вести под Таганрогом месяц спустя) и кавказец штабс-капитан Л. (убит в Первом походе)…
«На Москву»
Владимир Даватц
ладимир Христофорович Даватц (1883–1944) — фигура необычная даже для этой пестрой антологии. Среди наших героев были люди невоенные, которых жизнь заставила взять в руки оружие, были и потомственные солдаты, но так или иначе основным двигателем большей части из них была молодость, если не сказать юность. Возраст толкнул Эфрона и Гуля, Гиацинтова и Шидловского бросить все, поменять кардинально жизнь и отправиться на войну. Некоторые потом жалели об этом, некоторые нет.
Владимиру Христофоровичу Даватцу шестого июня 1919 года исполнилось 36 лет. Он был выпускником физико-математического факультета Харьковского Императорского университета, приват-доцентом этого же вуза и без пяти минут профессором. Великая война не сдвинула его с места, разве что интерес к политике стал более живым — Даватц оставался в 1917-1919 годах активным членом партии кадетов. Он безусловно поддержал борьбу с большевиками и приход в Харьков Добровольческой армии. Но ведь шестого июня ему исполнилось 36 лет! Чем посильно мог помочь в войне близорукий приват-доцент, вся связь которого с армией ограничивалась братом-полковником? Даватц, имевший издательский опыт, стал выпускать в Харькове газету «Новая Россия», а также вошел в харьковскую городскую управу. Вполне логичное и предсказуемое занятие.
Добровольческая армия двигалась на Москву. Бои за Курск, остановка под Орлом. Осень. Пыл добровольцев угасал, прошли те весенние и летние дни, когда в армию записывались сотни воодушевлённых людей. Началось отступление, в армию пришел тиф. Харьков эвакуировался. Даватц покинул город вместе с городской управой, членом которой являлся, 25 ноября 1919 года. И вот в дни, когда малодушные начинали потихоньку расползаться из армии, Владимир Даватц ушел на фронт добровольцем. «Кончается литургия оглашенных и начинается литургия верных», — писал Даватц в дневнике.
Приват-доцента определили в команду бронепоезда «На Москву», который как раз «сходил со стапелей» завода «Судосталь». Состав «экипажа» бронепоездов формировался специфическим образом. Наряду с высококвалифицированными специалистами (инженерами и флотскими офицерами, имевшими опыт работы с техникой и дальнобойными морскими орудиями) в команду бронепоездов зачисляли и «маломобильных» — оправлявшихся от ранений и 36-летних приват-доцентов.
«На Москву» был тяжелым бронепоездом, созданным на средства промышленных магнатов Юга России. Это был состав не кустарно собранный в ближайшем депо или отбитый у большевиков, а построенный на специализированном новороссийском заводе, бронирующем для Белой армии поезда и машины. Командиром поезда стал полковник Владимир Карпинский, водивший до этого один из самых известных и успешных белых бронепоездов — «Единую Россию».

Первый бой «На Москву» принял 5 января 1920 года под Батайском, затем он прикрывал отступление частей ВСЮР к Новороссийску вплоть до 26 марта, когда в день эвакуации был брошен на путях перед городом. Уже в Крыму барон Врангель отдал приказ за № 2911, согласно которому личный состав бронепоезда был направлен на пополнение оперировавших на полуострове бронедивизионов. Команда «На Москву» пошла на пополнение поезда «Грозный», но на фронт он так и не вышел.
Даватц честно прослужил на «Москве» вплоть до гибели поезда, числился в составе команды «Грозного» и вместе с армией эвакуировался в Галлиполи. Войну он закончил младшим фейерверкером (унтер-офицерское звание).
В Галлиполи Даватц стал практически достопримечательностью. Диковинный приват-фейерверкер — объект всеобщего внимания. Его знал Иван Лукаш, автор книги «Голое поле», он посвятил Даватцу несколько строк:
Есть такой приват-доцент математики, что из Харькова простым солдатом пошел на бронепоезд. Теперь он артиллерийский поручик. Даватц в мешковатой рубахе, худой, с узким породистым лицом, с седеющей, стриженой головой. Простые офицеры над ним добродушно подсмеиваются: «Дернул раз шнур у боевой пушки — и погиб, помешался от любви к армии». Даватц — тихий фанатик. Это — жрец армии, и его армейская служба — не служба, а какая-то тихая литургия.
Война окончилась, Даватц стал артиллерийским поручиком, наверное, одним из самых великовозрастных в русской армии. При этом он не имел никакого военного образования, да и свой опыт считал явно недостаточным для звания. Даватц остался при Врангеле, участвовал в работе его штаба и общественно-политической жизни армии. Естественно, он входил в РОВС. Публиковался в «Вестнике Галлиполийцев» и «Часовом», издавал книги по истории Белого движения («На Москву» и «Русская армия на чужбине»). Быстро создал себе имя среди военной эмиграции, став одним из самых пламенных ее пропагандистов и хранителей рыцарских идеалов. В «Часовом» он писал:

Пора признать, что мы — ничтожная сила, если сейчас сразимся большевиками в открытом бою один на один на бранном поле: мы просто физически погибнем. Мы — ещё более ничтожная сила, если вступим с ними в единоборство путём тайных интриг и действий из-за угла: мы испачкаемся и погибнем морально.
Россия освободится не нашими усилиями и не усилиями других эмигрантских организаций.
Но какой великий подарок мы сделаем нашей освобождённой Родине (а это будет!), когда преподнесём ей тот чистый резервуар духа, который, как кислород, оживит нашу задыхающуюся страну!
Вторая мировая война застала Даватца в Белграде. И он снова пошел воевать! Без малого в 60 лет Даватц тянул лямку рядового Русского корпуса и нашел смерть в 1944 году во время одной из бомбардировок в местечке Синенцы.
В бытность свою фейерверкером на бронепоезде Даватц вел дневник. Эти записи стали в скором времени книгой «На Москву» (книга издана в Константинополе в 1921 году). Сам новоиспеченный артиллерист так писал в предисловии:
Записки писались не для того, чтобы быть опубликованными. День за днем, я, как участник войны, заносил свои впечатления и наблюдения над окружающей жизнью… Когда вдруг стало мне ясным, что эти записки помимо личного интереса имеют общественный… я решил отбросить некоторую неловкость и опубликовать эти записки…
Воспоминания Даватца о трех месяцах войны — прочувственное повествование невоенного человека. Люди, толкающие к подвигу, журналисты и политики, обычно сами в подвиге не участвуют, Даватц в этом смысле был большим исключением. Он пошел воевать в дни самые бесперспективные и в своей книге описал подробно ужасы поражения и бегства, так уместно разбавленные его маленьким бытовым героизмом. Никому из военных, конечно, такую книгу написать бы не удалось. Даватц очень остро чувствовал обреченность и жертвенность своего положения и замечательно выразил это настроение в воспоминаниях.
Отрывок из книги:
…Это был момент величайшего напряжения нервов, теперь было ясно, что мы погибли. Вероятно, думалось мне, выкинут белый флаг и станут просить о пощаде…
…Я ощупал кольт и сжал его рукой, как лучшего друга. Недаром я так хотел иметь револьвер. Только благодаря ему я совершенно покоен: через каких-нибудь полчаса, если не убьют, его пуля будет сидеть в моей голове. И вдруг страшно захотелось жить. Солнце было так ярко, море так чисто; воздух такой свежий и бодрящий…
…Но что же себя утешать: жизнь кончается. И на душу сошло что-то торжественное, покойное.
«Очерки русской смуты»
Антон Деникин
нтон Иванович Деникин — еще один исполин нашей антологии, не нуждающийся в представлении. Главнокомандующий Добровольческой армией и ВСЮР в период расцвета и наибольшего успеха, уже в апреле 1920 года он оказался не у дел на пути в Англию. За границей к старому генералу некоторое время испытывали интерес правительственные круги Англии и Франции, но внимание это угасало и по мере общего охлаждения иностранцев к Белому делу, и по мере понимания того, что сам Деникин, как политическая сила, неуклонно уходит в прошлое.
Генералу вручили почетную грамоту и предоставили возможность самостоятельно заниматься своим будущим. У Деникина не было ни капитала, ни недвижимости, только нерастраченная популярность и авторитет в эмиграции. Антон Иванович был вынужден вспомнить молодость, когда он, будучи юнкером и, позднее, молодым офицером, занимался литературными опытами под псевдонимом «Иван Ночин».
Деникин «по памяти» начал писать свою первую работу — «Очерки русской смуты». Выход ее был настолько успешен, что закрепил публицистику и документалистику в качестве основного источника заработка для старого генерала. Можно сказать, что он повторил еще более ранний опыт генерала Краснова и в этом своем начинании очевидно преуспел.
Сочетание положения, занимаемого Деникиным, и безусловного литературного таланта вылилось в создание капитального документального труда по истории Гражданской войны. Выход первого тома (в 1921 году) произвел колоссальное впечатление. Трудом Деникина была заворожена и военная эмиграция (Кусонский, Лампе и пр.), и литераторы русского зарубежья (от Бунина до Шмелева и Куприна, впрочем, последние два приходились близкими друзьями генералу). Книга была переведена практически сразу на английский и французский языки и многократно переиздавалась (и переиздается). Примечательно, что в переводе она носит иное название, так об этом вспоминала Мария Грей, дочь Деникина:
«Очерки русской смуты»… Перевести эти три простых слова на французский или английский язык оказалось так трудно, что автор дал согласие на следующее французское название первого тома — «Разложение армии и власти» и принял английское название — Russian Turmoil (дословно — «беспорядок»). На обложку изданного в Лондоне резюме вынесены слова: «Белая армия»…
Отрывки «Очерков» с удовольствием печатали и в СССР. Тиражи доходили до 100 000 экземпляров («Поход и смерть генерала Корнилова»). По свидетельству дочери генерала, Троцкий высказался о писательском опыте Деникина: «Удары судьбы, по-видимому, научили некоторых русских генералов-эмигрантов владеть словом и пером». Комплиментарно отметился и Максим Горький.
Приведем одну из характерных газетных заметок об «Очерках»:
Если будущие историки, стратеги и политики откажут А. Деникину в признании за ним дарований крупного военного вождя, то литературные критики охотно примут в лоно безусловно талантливых писателей.
Строки эти напечатаны в газете Бориса Савинкова «За Свободу» — отнюдь не самом лояльном генералу издании.
Итак, мы можем заключить, что воспоминания Главнокомандующего имели несомненный успех у весьма разношерстной публики, а гонорары, которые Деникин получал, даже позволили ему создать «временную иллюзию материального благополучия». Несколько подпортил общую восторженную картину пятый том книги, вышедший в Берлине в 1926 году. Он напрямую затрагивал сложный для Деникина период оставления власти и конфликта с Врангелем. Естественно, точка зрения генерала вызвала неприятие у чинов РОВС. Пятый том снова разжег конфликт между «врангелевцами» и «деникинцами», завершившийся только после публикации «Записок» и смерти барона.
Сам Деникин подвел такой итог своей работе над «Очерками»:
«Очерки русской смуты» я считаю самым важным делом моего эмигрантского житья. На работу эту я смотрел как на свой долг в отношении Белого движения перед памятью павших в борьбе, как на добросовестное свидетельское показание перед судами народными, судами истории.
Первый том «Очерков» принялся составлять по памяти, почти без материалов: несколько интересных документов, уцелевших в моих папках, небольшой портфель с бумагами ген. Корнилова, дневник Маркова, записки Новосливцева, комплекты газет. Поэтому 1-й том имеет характер более «воспоминаний», чем «очерка».
Для 2-го тома у меня уже был ряд заметок моих соратников, а для прочих томов — архив Особого совещания, вывезенный по моему приказанию заблаговременно за границу генералом Лукомским, а затем и архив генерал-квартирмейстерской части, полученный из Сербии после Крымской эвакуации. Кроме архивного материала, на мой призыв откликнулись многие общественные и военные деятели, прислав мне ценные записки. Менее всех, однако, помогли мои ближайшие помощники — члены Особого совещания…
Белое движение со всеми его светлыми и темными сторонами подвергалось и подвергается доныне нападкам и искажению со стороны людей, ходящих в узких политических шорах, смотрящих сквозь призму национального шовинизма или, попросту, невежественных…
В заключение добавим, что в перечень литературных и исторических произведений, рекомендованных школьникам Министерством образования, входит всего две «белые» книги — «Очерки» Деникина и «Белая гвардия» Булгакова.
«Первые четырнадцать лет»
Борис Павлов
ак уж трагически сложилась судьба Алексеевского пехотного полка, что его историю нам рассказывают не его командиры или старые солдаты, а дети. Первым нашим «алексеевцем» был семнадцатилетний юноша Александр Судоплатов, а сегодня речь пойдет о еще более молодом герое.
Борис Арсеньевич Павлов (1906–1994) провел детство в Тверской губернии и в год революции поступил в Московский кадетский корпус, который тут же перестал быть корпусом, став «гимназией», а затем и вовсе «советской школой». В 1919-м мальчик отправился со старшей сестрой в город Ливны к отцу и младшему брату. В Ливнах Павлов впервые увидел Белую армию:
…Помню теплый сентябрьский день, под вечер; солнце только собиралось садиться. На мосту через Сосну-реку, по дороге, идущей в город, показалась стройная колонна долгожданных добровольцев. То были марковцы; они пели «Смело мы в бой пойдем за Русь святую!». Песню эту мы слышали в первый раз. Население забрасывало их цветами, многие плакали. Встречать добровольцев я снова надел припрятанные мною погоны нашего корпуса…
Марковцы заняли тогда город без боя.
Семья Павловых благоразумно решила перебраться подальше от линии фронта, но к ноябрю в Харьков удалось переехать только Борису и его отцу. Юный кадет отправился обратно в Ливны за сестрой и младшим братом, еще не зная, что 3 ноября (н. ст.) город был отбит у добровольцев эстонскими красными стрелками.
Волею случая Павлов попал в Алексеевский пехотный полк, да не просто в расположение, а под опеку командира полка Петра Бузуна и его супруги Ванды. Начальнику алексеевцев было тогда 26 лет, а его жене 20. Алексеевцы были вообще очень молодым полком, но Павлов выделялся возрастом даже на их фоне.

Павлов писал об алекссевцах:
«Молодость везде молодость — и слава Богу. Она неспособна долго мучиться. Молодость не задумывается над тем, что будет завтра. Ей естественно радоваться жизни, в самых тяжелых условиях не приходить в уныние и не терять надежды, что скоро будет лучше. И жалка та молодежь, у которой эти свойства отсутствуют или утрачены»
Павлов оказался в классическом положении сына полка. Зимой 1920 года он сам напросился на разведку в Ростов — довольно бестолковое, но смелое предприятие. После возвращения юный кадет был уже «своим, хотя и малым по возрасту, но полноправным членом полковой семьи».
За «ростовское дело» Кутепов приколол к груди Павлова Георгиевский крест IV степени, — так мальчик стал одним из последних георгиевских кавалеров в России. Борис с полком отступал до Новороссийска, принимал участие в трагическом десанте под Геническом, участвовал в высадке на Кубани.
После того, как полк практически погиб, Павлов был определен в кадетскую роту Константиновского училища, откуда попал в Крымский кадетский корпус. Корпус он окончил уже в СХС, в 1926 году, в составе шестого выпуска.
Юноша учился в люблянском университете на горного инженера, работал на рудниках в Словении, а в годы войны оказался мобилизован на работы в Германию.
 Борис Павлов
Борис ПавловС 1948 года Павлов жил с семьей в США и принимал активное участие в эмигрантской жизни. Он был членом Народно-Трудового союза, писал в военные эмигрантские журналы, такие как «Перекличка», «Часовой» и «Военная быль». Считал своим долгом увековечить память полка, с которым его связала в 1919 году судьба. В 1972 году под псевдонимом Борис Пылин он выпустил книгу «Первые четырнадцать лет», посвященную службе в 1-м Алексеевском полку.
Борис Павлов умер в возрасте 88 лет в США, оказавшись одним из немногих белогвардейцев, заставших падение СССР. У него была жена и двое детей. Дочь Павлова — Ольга Матич — довольно известный в эмигрантских кругах культуролог и литературовед, хорошо знавшая выдающихся представителей последних волн эмиграции — Лимонова, Довлатова, Синявского, Войновича и др.
«Первые четырнадцать лет» — уникальная книга в истории белой мемуаристики. Воспоминания оставляли юноши и зрелые мужчины, от рядового до Главнокомандующего. Но Павлов был буквально ребенком и, несмотря на то, что воспоминания свои писал спустя пятьдесят лет после событий, рассказал нам историю «славного 1-го Партизанского генерала Алексеева пехотного полка» совершенно детскими глазами. Так было суждено: подвиг молодежи в бело-голубых погонах увековечил ребенок.
…Убитых было около ста человек, и, наверное, много еще не найденных осталось лежать в зарослях кукурузы, в камышах плавней.
Сколько нужно было злобы, жестокости и садизма, чтобы это сделать. И ведь это проделали над русскими свои же русские и только потому, что они правду и добро понимали по-другому, чем те, кто надругался над ними…
«Крым. Плен»
Иван Савин
жилах Ивана Ивановича Саволаина (1899—1927) текла финская, греческая и молдавская кровь. При этом, конечно, Савин никакой не многонациональный, а самый настоящий русский поэт. Талантливый русский поэт.
Он родился в Одессе и вырос в городке Зеньков, что в Полтавской губернии. Гражданская война уже вовсю гремела, когда он окончил Зеньковскую мужскую гимназию («Советская школа 2-й ступени»). Сам Савин в автобиографии писал: «окончил школу после 7 ноября, но всё-таки грамотен».
Семья Саволаин жила «старосветской» тихой жизнью в Зенькове. В семье было восемь детей — пятеро сводных братьев и сестер Ивана и его родные брат Николай и сестра Надежда. Хотя родители не жили вместе последние годы, все дети были очень дружны. Саволаин-старший, финн по крови, вырос в русской культуре и своих детей воспитал соответственно. В конце лета 1919 года в Зеньков вошли части Белой армии и все братья приняли решение идти добровольцами. Гражданская война прошлась по фамилии Саволаин с размахом, практически ее истребив. Из всех мужчин в живых после 1920 года остались только Иван и его отец. Первым погиб Николай, родной брат поэта, вслед за ним в Крыму в конном бою погиб Борис, двое других братьев (Михаил и Павел) были расстреляны в ноябре 1920 года после поражения русской армии. Гибель родного брата Савин описал в 1923 году в стихотворении:
Мальчик кудрявый смеется лукаво.
Смуглому мальчику весело.
Что наконец-то на грудь ему слава
Беленький крестик повесила.
Бой отгремел. На груди донесенье
Штабу дивизии. Гордыми лирами
Строки звенят: бронепоезд в сражении
Синими взят кирасирами.
Липы да клевер. Упала с кургана
Капля горячего олова.
Мальчик вздохнул, покачнулся и странно
Тронул ладонями голову.
Словно искал эту пулю шальную.
Вздрогнул весь. Стремя зазвякало.
В клевер упал. И на грудь неживую
Липа росою заплакала…
Схоронили ль тебя — разве знаю?
Разве знаю, где память твоя?
Где годов твоих краткую стаю
Задушила чужая земля?
Все могилы родимые стерты.
Никого, никого не найти…
Белый витязь мой, братик мой мертвый,
Ты в моей похоронен груди.
Спи спокойно! В тоске без предела,
В полыхающей болью любви,
Я несу твое детское тело,
Как евангелие из крови.
Стихи он посвятил каждому из своих погибших братьев и сестёр.({{1}})
Савин служил вольноопределяющимся в кавалерии Белой армии, сначала в «3-м и 20-м кавалерийских полках, а в Крыму — в 3-м сводно-кавалерийском полку и в эскадроне 12-го уланского белгородского полка». Известный скорбный путь Ивана Савина проделали и многие предыдущие наши герои — наступление, бои, отступление, Новороссийск, Крым… Последние дни Белого Крыма Савин, больной тифом, провел в Джанскойском лазарете и не был эвакуирован. Попал в плен. В автобиографии с юмором описывал этот бурный период своей жизни:
С осени 1919 по осень 1921 блуждал по Дону, Кубани и Крыму и увлекался спортом: первое время верховой ездой и метанием копья, затем — после поражения на Перекопской Олимпиаде, заставшего меня в госпитале, — увлекательными прогулками по замерзшей грязи в костюме Адама и охотой за насекомыми в подвалах, особо и чрезвычайно для этого устроенных.
В это время и пригодилось ему то единственное, что связывало Саволаина с финскими предками — фамилия. Благодаря своему бывшему сослуживцу Иван попал в Финляндию, где уже ждал его отец. Вместе они легализовались около 1922 года. Интеграция в финское общество стала необходимым жестом, Савин был частью России и русского мира за границей. Уже в Финляндии Иван женился на Людмиле Соловьевой, дочери офицера. За границей активно публиковался в эмигрантской периодике — как финляндской, так и французской, немецкой, балканской. Его стихи и рассказы публиковали «Руль», «Русские вести», «Иллюстрированная Россия», «Новое время», «Возрождение»…

В 1926 году при содействии «Общества Галлиполийцев» в Белграде вышел единственный прижизненный сборник стихов Савина «Ладонка». В предисловии к этому изданию Владимир Даватц писал:
Стихи Ивана Савина стоят того, чтобы их отметить. В них нет ни патриотического шума, ни сентиментальной слащавости. И главное, — в них нет нигде стихотворной прозы. Словами, которые падают в душу огненными каплями, выражает он внеполитическую природу Белых борцов.
Еще при жизни Савин стал «поэтом Белой мечты». Как хотелось бы сказать: «великий, недооцененный», но это было бы неправдой. Савин был очень популярен в эмиграции при жизни. О нем говорили многие, включая писателей Бунина и Куприна, критика Пильского и др. Поэт ушел из жизни рано и как-то нелепо для человека, пережившего Гражданскую войну. Савин умер 12 июля 1927 года… от заражения крови после неудачной операции на аппендиците. Жена Савина, бывшая с ним в последние минуты, так описала смерть поэта:
В горячую душную ночь, около 4-х утра, Савин нацарапал на листке бумаги «вспрыснуть морфий… доктора». Но было поздно. Укол не помог. Поэт затих и долго смотрел прямо перед собой в огромное окно, куда заглядывали ветки деревьев, потом осенил себя широким крестным знамением и сказал ясно и тихо «Господи»…
Это было в 5 часов утра, в день свв. Апостолов Петра и Павла, в 1927 году, в Хельсинки, Финляндия…
Некролог. Иван Бунин:
То, что он оставил после себя, навсегда обеспечило ему незабвенную страницу и в русской литературе; во-первых, по причине полной своеобразности стихов и их пафоса; во-вторых, по той красоте и силе, которыми звучит их общий тон.
Иван Савин много публиковался в периодике, но при жизни выпустил только один сборник — «Ладонку». Книгу переиздали в 1947 году в Европе, затем в 1956 году в США, а в 1988 году вдова поэта выпустила сборник стихов и прозы Савина «Только одна жизнь». Уже этот сборник проник в мизерном количестве за трещавший по швам «железный занавес». В 1990 году стихи Савина впервые опубликовали, потом печатали в 1993 и 1998 годах. В 2007 году был выпущен сборник «Всех убиенных помяни Россия», самая полная антология его произведений на данный момент.
Творчество Савина сейчас довольно известно в России, но более распространены его стихотворения, именно поэтому мы решили выбрать для антологии повесть «Плен». Это одна из первых послевоенных публикаций Савина (вышла в 1922 году).
Может быть, не самая главная, но самая страшная повесть заставляет ненавидеть уже само это вязкое и холодное слово «плен». Она вводит читателя в состояние ужаса и оцепенения, которое пришлось пережить автору:
…трагическое завершение Белого движения было смертельным ударом. Он убивал в тех, кто плыл в эти безысходные дни к босфорским берегам, последнюю надежду на возобновление борьбы за русскую Россию. В нас, попавших в красный плен, он убивал и эту надежду, и самую жизнь.
На наш взгляд, «Плен» — одно из самых ярких свидетельств о первых страшных днях Крыма в ноябре-декабре 1920 года. Великое счастье, что среди сотен убитых и замученных живым из плена вышел наш поэт. Разве кто-то смог бы рассказать лучше?
По серому больничному одеялу шагал крошечный Наполеон. Помню хорошо, вместо глаз у него были две желтые пуговицы, на треугольной шляпе — красноармейская звезда, а в левой, крепко сжатой в кулак, руке виднелась медная проволока.
Наполеон шагал по одеялу и тянул за собой товарные вагоны — много, тысячи, миллионы буро-красных вагонов. Когда бесчисленные колеса подкатывались к краю кровати и свисали вниз дребезжащей гусеницей, Наполеон наматывал их на шею, как нитку алых бус, и кричал, топая ногами в огромных галошах…
Так шли часы, дни. Может быть, было бы лучше, если бы очередной приступ обрезал их тонким горячим ножом. Не знаю. Может быть.
Когда пугливая, неуверенная мысль впервые после долгого бреда промыла глаза и осеннее солнце запрыгало по палате, у дверей стоял санитар в черной шинели с коричневым обшлагом на рукаве и говорил дежурной сестре эти невероятно глупые слова:
— Перекоп взят.
Всегда так было: если мне приходится неожиданно услышать что-нибудь непоправимо-горькое, закрывающее все пути к надежде, я начинаю нелепо смеяться. Так было и тогда — все лицо у меня исказила эта дикая, растерянная улыбка…
«Походы и кони»
Сергей Мамонтов
то нужно знать о личности Сергея Ивановича Мамонтова (1898–1987)? Во-первых, он представитель той самой купеческой фамилии Мамонтовых, к которой принадлежал и Савва Мамонтов (Савва был братом деда Сергея). Во-вторых, он родился в очень неспокойное время, определившее судьбу за него.
Мамонтов вырос в имении отца в Киреево (район Химок). Окончил в 1916 году гимназию и, по воспоминаниям знавшего его в эмиграции филолога Ренэ Герра, «боялся, что война кончится без него». Это опасения оказались беспочвенными.
Сергей окончил ускоренный курс Константиновского артиллерийского училища и был выпущен в чине прапорщика в действующую армию. Он попал в 64-ю артиллерийскую бригаду — армейское подразделение второй очереди, развернутое в 1914 году. Бригада воевала на Юго-Западном фронте, а это уже в значительной мере определяло будущее молодого прапорщика. Примечательно, что большая часть наших героев, примкнувших к Добровольческой армии в 1917-1918 годах, в годы Великой войны служила в частях именно Юго-Западного фронта. Фронт действительно был особенным, ведь именно там «зарождалась контрреволюция», именно там служили Корнилов, Деникин, Эрдели, Миллер и другие.
Мамонтов воевал на Юго-Западном фронте до октября, затем участвовал в московских боях и некоторое время прожил в Москве уже при большевиках. В середине 1918 года, когда жизнь для офицеров стала в новой столице невыносимой, он вместе с братом уехал в Добровольческую армию. В августе 1918 года Мамонтов был зачислен в конно-горную батарею. Основной состав батареи пришел с отрядом Михаила Дроздовского из Ясс, что автоматически включало «1-ю генерала Дроздовского конно-горную батарею» в число привилегированных добровольческих формирований.

С дроздовцами Мамонтов провоевал до самой крымской эвакуации. Он покинул Россию из Ялты. Потом были Галлиполи, Париж, Берлин. Сергей выучился на архитектора в Высшем Техническом училище, работал по специальности. После Второй мировой войны Мамонтов некоторое время проработал в Африке, где создал собственную кофейную плантацию и стал невольным участником центральноафриканских конфликтов. При диктаторе Дако он даже некоторое время провел в тюрьме, но был освобождён как французский подданный.
До 70-х годов жизнь Мамонтова развивалась в приключенческом, но довольно привычном для русской военной эмиграции русле. Строго говоря, и его желание написать мемуары не было чем-то выдающимся. Но вот результат превзошел все ожидания.
Мемуары делятся на две большие категории, которые легко прослеживаются в нашей антологии: воспоминания, написанные для современников, и воспоминания, написанные для потомков. «Походы и кони», несомненно, относятся к последней категории. Такие книги, написанные «с высоты опыта» умудренными людьми, как правило, менее ангажированы. Их главный недостаток — это память, которая часто подводит авторов спустя годы, но у Мамонтова имелся дневник времен войны:
Мне же повезло — у меня сохранился дневник, и я остался жив. Поэтому считаю своей обязанностью изобразить все, что видел…
Отрывки воспоминаний Мамонтова публиковались в эмигрантской периодике с 1970 года. Это были журналы «Русская мысль» и «Новое русское слово». Ирина Иловайская, главный редактор «Русской мысли», входила в состав жюри парижской «Премии имени Даля». Возможно, этот факт как-то способствовал тому, что в 1979 году Мамонтов стал лауреатом премии. Вскоре (1981 год) свет увидело первое полное издание книги «Походы и кони», отпечатанное в YMCA-Press. С этого времени началось триумфальное шествие книги по эмигрантскому миру. Воспоминания Мамонтова были очень тепло встречены и читателями, и критикой, как писал Ренэ Герра: «Мамонтов внес живые страницы в бесконечный роман, под названием — эмигрантская литература».
После падения СССР воспоминания Мамонтова стали одной из первых белых книг, вернувшихся в русское пространство. Мемуары печатались в 1992 году в периодике, а затем издавались самостоятельно и в сборниках более десятка раз (сравнимо с «Очерками» и «Дроздовцами в огне»).
«Походы и кони» — это одна из самых популярных мемуарных книг по истории Гражданской войны. Почему?
Во-первых, книга написана литературно одаренным человеком, что нехарактерно для военных мемуаров. Произведение настолько талантливо, что удивительным остается, почему Мамонтов взялся за перо так поздно.
Во-вторых, Мамонтов не принадлежал ни к какой партии и шел на войну «не имея никакого представления о политике, а просто идя спасать гибнущую Россию». Эта его позиция очень подходит «широкой аудитории читателей». Мамонтов приемлем. Автор прожил долгую и насыщенную жизнь, при этом он «выдержал марку», как было принято говорить (не был возвращенцем, советским патриотом и пр.). Эта ровность и уверенность в себе отразилась и на повествовании — насыщенном и одновременно спокойном.
Мамонтов умер во Франции в 1987 году почтенным восьмидесятилетним стариком. После нашумевшей «Походы и кони» он выпустил книгу «Сказание», также оставил довольно обширное литературное наследие в эмигрантской периодике. В частности, он писал очерки о своей бурной жизни в Центральной Африке, не уступающие «Походам» по качеству изложения и накалу страстей. Весь этот материал в России неизвестен и ждет своего исследователя и издателя, а пока «Походы и кони» остаются одной из главных мемуарных книг Русского зарубежья.
Красная конница была уже недалеко, она перешла на галоп. У нас началась паника. Я бросился к орудию. Мы выпустили два выстрела картечью и рассеяли конницу перед нами, но оба фланга нас захлестнули. Мы прицепили орудие на передок, но не имели времени поставить на низкую ось. Ездовые (Ларионов и Ранжиев) тотчас же тронули крупной рысью. В нашем орудии почему-то было только два выноса (4 лошади) вместо трех. Коноводы подали лошадей. Я еще не вполне отдавал себе отчета в опасности и был удивлен истерическим криком коновода:
— Берите лошадей… Да берите же лошадей, а то я их распущу!
…Выстрелы, крики, кругом силуэты скачущих с шашками всадников. Наши исчезли. Тогда я так испугался, что почти потерял сознание от страха.
Сознание вернулось как-то сразу. Я скакал между двумя красными всадниками, касаясь обоих коленями. Лица их были налиты кровью, они орали и махали шашками, но, очевидно, находились в состоянии одурения, как я допрежь, потому что они меня не замечали. Я попробовал протиснуться между ними, но мне это не удалось. Тогда я попридержал Ваньку, пропустил их и взял направление под углом. Сердце билось, как на наковальне. Всеми силами я старался сохранить разум. Становишься слишком легкой добычей, если балдеешь. Все же перевел я Ваньку на рысь, чтобы сохранить ему силы, если понадобятся. Снял из-за спины карабин и отвел предохранитель. Я знал, что в нем пять патронов. Патроны в то время были редкостью. Присутствие карабина меня несколько успокоило. Я искал глазами среди скакавших наших. Наконец я узнал одного офицера. Мы обрадовались друг другу, как родные. Вскоре нашли и других офицеров. Мы перешли на шаг. Красная атака остановилась.
Мы рассыпались в цепь и открыли огонь по красным. Мой карабин слабо щелкнул. Я открыл затвор — патронов не было, их у меня украли…
[[1]]
Расстрелянным Михаилу и Павлу Савин посвятил что-то совсем страшное:
Ты кровь их соберешь по капле, мама,
И, зарыдав у Богоматери в ногах,
Расскажешь, как зияла эта яма.
Сынами вырытая в проклятых песках,
Как пулемет на камне ждал угрюмо,
И тот, в бушлате, звонко крикнул: «Что, начнем?»
Как голый мальчик, чтоб уже не думать,
Над ямой стал и горло проколол гвоздем.
Как вырвал пьяный конвоир лопату
Из рук сестры в косынке и сказал: «Ложись»,
Как сын твой старший гладил руки брату,
Как стыла под ногами глинистая слизь.
И плыл рассвет ноябрьский над туманом,
И тополь чуть желтел в невидимом луче,
И старый прапорщик во френче рваном,
С чернильной звездочкой на сломанном плече,
Вдруг начал петь — и эти бредовые
Мольбы бросал свинцовой брызжущей струе:
Всех убиенных помяни, Россия,
Егда приидеши во царствие Твое…
[[1]]

 Владимир Даватц
Владимир Даватц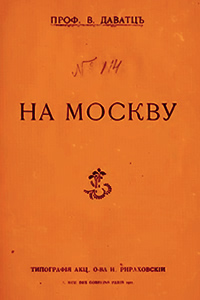 Обложка книги
Обложка книги Антон Деникин
Антон Деникин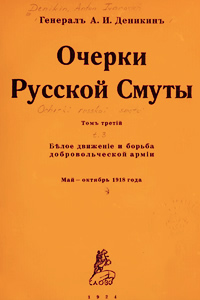 Первое издание третьего тома. 1924 год
Первое издание третьего тома. 1924 год Английское издание
Английское издание Французское издание
Французское издание

 Иван Савин
Иван Савин Обложка книги
Обложка книги Дарственная надпись Савина на сборнике «Ладонка»
Дарственная надпись Савина на сборнике «Ладонка» Сергей Мамонтов
Сергей Мамонтов Обложка книги
Обложка книги




