Обыватель часто представляет себе историю как бесконечную вереницу дат — огромный хронограф, летопись, где к каждой дате прикручена аккуратная табличка с указанием, что именно случилось в этот год, день и час. Но такое представление об истории чрезвычайно далеко от реальности — хотя бы потому, что сколько-нибудь важные процессы, происходящие в обществе, обычно слишком сложны и многогранны, и нельзя сказать, в какой момент они начались, а в какой закончились. Если посмотреть в такой вульгарно-хронологической трактовке на день 30 января 1933 года, то он будет иметь вполне лаконичную и однозначную маркировку: «В этот день Адольф Гитлер пришел к власти в Германии». Но насколько это соответствует действительности? Что в этот день закончилось, что, наоборот, только началось, а что вообще находилось в самом разгаре?
На самом деле, «пришел к власти» — это не более, чем удобная бирка для потомков, знающих, чем все закончилось. Это наше послезнание. Но как это выглядело для современников? На практике в тот день все было куда сложнее.
Да, президент Гинденбург действительно назначил Гитлера канцлером и поручил ему формирование нового кабинета. Но это был не «президентский» кабинет, куда с использованием чрезвычайных полномочий Гинденбурга можно было бы назначить кого угодно, на выбор. Нет, это был «парламентский» кабинет — то есть такой, в основе которого, по идее, должна была лежать коалиция парламентских партий, представляющих большинство голосов в рейхстаге. Это было по определению не нацистское правительство, а коалиционное.

Собственно, и никакого назначения канцлером Гитлеру не видать бы, как своих ушей, если бы не соглашение с консервативными националистами Гугенберга. Более того, это соглашение оказалось убедительным в глазах президента (который, как мы помним, весьма недоверчиво относился к Гитлеру) именно благодаря тому, что Гитлер и НСДАП в нем очевидно находились в подчиненном и зависимом положении. Гитлер получил пост канцлера исключительно на условии, что нацисты в новом правительстве будут играть незначительную роль. Так и получилось — помимо канцлерства национал-социалисты получили всего два места в кабинете (из одиннадцати). Фрика назначили министром внутренних дел — название поста звучит солидно, но эта должность в Веймарской Германии на практике была куда менее значимой, чем может показаться, поскольку (в отличие от многих других стран) германский министр внутренних дел не руководил полицией — она вся находилась в подчинении правительств земель. А положение Геринга было еще более странным — ему в правительстве вообще не дали руководить ничем конкретным, он стал «министром без портфеля». Было негласное понимание, что бравый летчик станет со временем министром авиации — после того, как у Германии появится собственная авиация (когда именно это произойдет, можно было только гадать). А пока что он, по сути, создавал массовку, и не более того. Правда, от внимания почти всех наблюдателей ускользнул тот факт, что одновременно Геринг получил и еще одно назначение — менее престижное, но впоследствии оказавшееся чрезвычайно важным. Он стал министром внутренних дел Пруссии — и в этом качестве в его прямое подчинение попала прусская полиция. Ключевые портфели поделили между собой консерваторы, причем кое-кто из них просто остался на своей прежней должности — а именно Нейрат, министр иностранных дел. Бломберг стал министром обороны. Сам Гугенберг возглавил объединенные министерства экономики и сельского хозяйства. Зельдте (руководитель Стального шлема) стал министром труда. Остальные министры сохранили свои должности еще с папеновских времен — во многом потому, что не имели партийной привязки, будучи просто техническими специалистами, каждый в своей профессиональной области. Сам Франц фон Папен стал вице-канцлером и премьер-министром Пруссии. Очевидно было, что ему предназначалась роль основного сдерживающего фактора. В качестве вице-канцлера он призван был держать на поводке Гитлера (с этой целью заключили беспрецедентное устное соглашение: Гинденбург будет принимать канцлера лишь в присутствии вице-канцлера, и никак иначе), а в качестве прусского премьера Папену полагалось контролировать Геринга, который оказывался таким образом у него в прямом подчинении.
Схема выглядела достаточно продуманной и надежной. Точнее, выглядела бы, если бы не один пикантный нюанс: национал-социалисты Гитлера и националисты Гугенберга вместе не обладали большинством в рейхстаге (в совокупности у них было лишь 247 голосов из 583), и потому, строго говоря, не имели права образовывать коалиционное правительство. Это можно было исправить, включив в коалицию центристов с их 70 голосами — и одним из первых действий Гитлера в качестве новоиспеченного канцлера была как раз отправка к центристам Геринга для переговоров о таком союзе. В пять часов вечера в день своего назначения Гитлер как канцлер созвал первое заседание кабинета, и как раз на нем-то Геринг и озвучил результаты своей миссии: центристы выдвинули встречные требования. В обмен на участие в коалиции они хотели получить места в правительстве. Геринг тут же, прямо в завершение своего доклада, предложил распустить рейхстаг и назначить новые выборы (конечно, это должен был сделать президент). Гитлер был за, Гугенберг против. Конечно, лидер консервативных националистов не горел желанием делиться министерскими портфелями с Центром, но он вполне справедливо опасался, что вот теперь-то, когда Гитлер имел возможность использовать в предвыборной кампании всю мощь административного ресурса, НСДАП явно окажется на выборах в привилегированном положении. Чего доброго, нацисты еще смогут набрать абсолютное большинство голосов самостоятельно — и зачем им тогда будет нужен Гугенберг? Поэтому он предложил другой, весьма оригинальный выход: просто запретить Коммунистическую партию. Коммунисты имели в рейхстаге ровно 100 голосов. Если эти 100 голосов выбывали, коалиция автоматически получала абсолютное большинство даже без необходимости привлекать новых членов. Гитлер, однако, выступил категорически против. Антидемократические меры — совершенно неприемлемо! После долгих споров решили, что Гитлер лично предпримет еще одну попытку уговорить центристов. Но если переговоры не дадут эффекта, правительство будет ставить перед президентом вопрос о роспуске рейхстага.
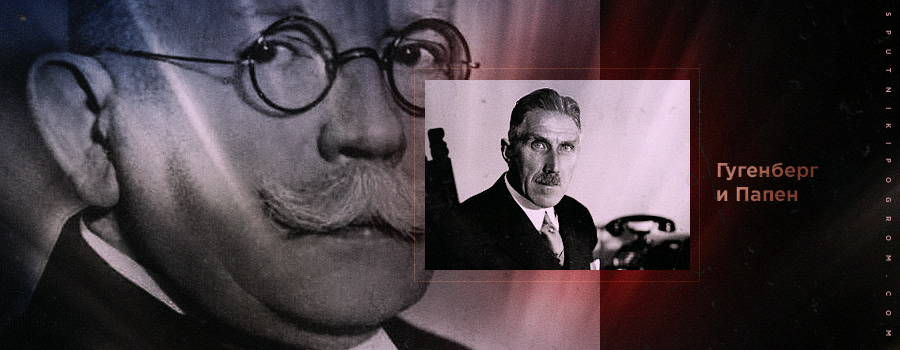
Трудно понять, на что рассчитывали Гугенберг и Папен. На честность Гитлера? Вряд ли. Скорее уж на гибкость и сговорчивость центристов. Возможно, тот же Папен по каким-то своим каналам (ведь изначально он сам был членом центристской партии) даже дал их руководству определенный намек — мол, пришло время немного поступиться своими амбициями ради общего блага. Если это так, то намек подействовал. Во всяком случае, лидер Центристской партии, монсеньор Людвиг Каас (напомним, что Центр был католической партией; Каас был священником, советником папского нунция) сформулировал гораздо более умеренный список требований, чем можно было ожидать. Там уже не было ничего про конкретные министерские посты — по сути, Каас хотел лишь получить от Гитлера письменные гарантии, что новый канцлер будет править в строгом соответствии с конституцией. Гитлер, однако, сообщил кабинету, что Центр выдвинул нереальные требования, не оставляющие возможности достичь соглашения. В определенном смысле так и было — не для того фюрер НСДАП рвался к должности канцлера, чтобы строго руководствоваться конституцией (в соответствии с которой канцлер, вообще-то, был фигурой хоть и важной, но скорее технической, зависимой от президента и рейхстага). Не дав кабинету времени для проверки этой информации, Гитлер немедленно поставил вопрос ребром: необходимо было срочно просить президента распустить рейхстаг и назначить новые выборы — правительство находилось в подвешенном состоянии, его полномочия в любой момент могли быть поставлены под сомнение. При этом Гитлер с готовностью обещал Папену и Гугенбергу, что вне зависимости от исхода выборов состав правительства останется тем же. Эта гарантия их немного успокоила, а неослабевающий напор со стороны Гитлера сделал остальное. По сути, Гитлер сумел, находясь в меньшинстве, силой продавить нужное ему решение там, где для этого не было достаточных оснований — ни юридических, ни фактических. Реальность прогнулась под его натиском. Новые выборы были назначены на 5 марта.
Историки иногда говорят, что выборы 1933 года были последними свободными выборами в Германии — но «свобода» этих выборов уже довольно относительна. Теперь в распоряжении НСДАП оказалась вся мощь административного ресурса, доступного в рамках весьма несовершенной Веймарской конституции. Такова участь любого псевдодемократического режима, который, опасаясь за свою сохранность, создает антидемократические механизмы для «законного» подавления конкурентов. Если кому-то из этих конкурентов когда-нибудь удастся прорваться к властным рычагам, в их руках окажется все необходимое для укрепления этой власти и вытеснения всех потенциальных соперников на политическую обочину. Геббельс радовался как ребенок, которому подарили новые блестящие игрушки — впервые в его эксклюзивном распоряжении оказалось радио, а также широчайшие возможности для влияния на центральную печать. Теперь он мог по-настоящему дать волю своей творческой фантазии.
А самое главное — теперь однозначно не было недостатка в деньгах. Крупные германские промышленники приветствовали правое правительство — они рассчитывали, прежде всего, что оно сумеет обуздать сильно беспокоившее их профсоюзное движение и дать отпор коммунистам. Зная это, Гитлер собирался заставить капиталистов заплатить сполна. Люди, которые со скрипом и сомнениями давали ему деньги, пока он боролся за власть, оказались гораздо сговорчивее теперь, когда власть была в его руках. Более того, к ним с удовольствием присоединялись и те, кто в дружбе с нацистами прежде замечен не был. Встреча с представителями крупного бизнеса (их собралось больше двух десятков) прошла 20 февраля в резиденции президента рейхстага (которым, напомним, был все тот же многостаночник Герман Геринг). Организовывал мероприятие Яльмар Шахт, Геринг и Гитлер выступали перед гостями и общались с ними неформально. Среди присутствовавших были главные имена германской экономики — Крупп фон Болен (ранее не поддерживавший НСДАП, по некоторым сведениям, даже интриговавший против назначения Гитлера канцлером, но после этого назначения в одночасье ставший большим другом и почитателем нацистов), Бош, Шницлер (глава гигантского химического концерна И.Г. Фарбен, который впоследствии будет активно использовать труд заключенных Аушвица на своем производстве). Гитлер выступил с речью, которая была настоящим панегириком частному предпринимательству вообще и «капитанам индустрии» в частности. Уж они-то, говорил фюрер, как никто другой должны понимать, что главным условием для развития частной инициативы является вовсе не демократия, а порядок, твердая власть и волевое лидерство. Все материальные богатства — дело рук немногих избранных, а культура и цивилизация расцветают тогда, когда насаждаются, при необходимости, железным кулаком.

Нетрудно заметить, что Гитлер обращался не столько к реальным немецким «олигархам», сидевшим перед ним, сколько к их воображаемому образу самих себя. У кого из них была «несгибаемая воля» и «железный кулак»? У Круппа, готового полностью сменить свою политическую ориентацию за одну ночь в угоду новой власти? Правда заключается в том, что крупный бизнес любит воображать себя властителем судеб страны, но на деле, за редким исключением, им не является. В реальности он всегда следует за правящим режимом. Деньги всегда вторичны по отношению к власти, и самый надежный способ привлечь их — это прорваться к власти любыми правдами и неправдами. Именно это и сделал Гитлер. Исход встречи был уже предрешен, фюрер лишь польстил промышленникам, умаслил их, заверил в их собственной значимости — чтобы им было веселее расставаться с деньгами. Когда речь шла о его намерениях, он был предельно — даже неожиданно — откровенен. Он уничтожит марксистов в Германии. Он восстановит мощь германской армии (здесь был прямой интерес для многих присутствующих, которым масштабная программа перевооружения сулила выгодные контракты). Он не собирается отдавать власть — с их помощью или без нее. Если ему не удастся удержать эту власть законным способом, он готов применить «другие методы». Выступавший за ним Геринг развернул эту мысль еще откровеннее: предстоявшие выборы имели все шансы стать последними выборами в Германии на следующие десять лет, а может быть — и на следующие сто. Бизнесу следовало раскошелиться сейчас, чтобы пожинать плоды этого сотрудничества потом. Нацистские руководители говорили не как просители, представляющие свой бизнес-план спонсорам. Они выступали как подлинные, уже состоявшиеся хозяева Германии. Они говорили так, будто это сидевшие перед ними олигархи были соискателями их будущей милости. И это сработало. Крупп фон Болен — тот самый Крупп фон Болен, который меньше месяца назад до последнего выступал против назначения Гитлера — вскочил и горячо поблагодарил канцлера за столь ясное и вдохновляющее выступление. Шахт пустил по кругу шляпу. Прямо на месте собрали три миллиона марок, и это был только маленький задаток.
Слова об «уничтожении марксистов» не были пустым разговором — и присутствовавшие бизнесмены уже об этом знали. Еще в первых числах февраля Гитлер (который незадолго до этого воспротивился запрету Коммунистической партии) запретил любые собрания коммунистов и закрыл все их печатные органы. Попутно досталось и социал-демократам — их мероприятия теперь систематически разгонялись штурмовиками СА, которые развернули настоящий уличный террор. Происходящее затронуло даже центристов — у них были свои собственные католические профсоюзы, и это автоматически поставило их в глазах нацистов на одну доску с социалистами. Штегервальд, руководитель центристских профсоюзов, был избит, и даже самому экс-канцлеру Брюнингу пришлось спасаться бегством и искать защиты у полиции. Всего за время избирательной кампании в уличных столкновениях были убиты 51 противник нацистов и 18 штурмовиков.
Самым большим разочарованием для Гитлера и его сподвижников было… бездействие марксистов: попытка левой революции так и не состоялась, несмотря на то, что поводов для открытого восстания новое правительство дало множество. Анализ дневников того же Геббельса показывает, что коммунистическая угроза для нацистской верхушки в 1933 году была не просто фигурой речи: ей не только стращали избирателей, к ней реально готовились. На передовой этой подготовки был Геринг как министр внутренних дел Пруссии. Вопреки всем ожиданиям, Геринг очень быстро ушел в отрыв и вовсе перестал слушаться Папена. По сути дела, национал-социалистическая партия уже начала подменять собой германское государство — с того момента, как чиновник крупнейшей и важнейшей из германских федеративных земель начал в своих практических действиях руководствоваться политикой партии, а не указаниями вышестоящего должностного лица. В первую очередь Геринг произвел широкомасштабные кадровые перестановки во вверенном ему ведомстве, уволив несколько сот человек (в том числе 22 из 32 начальников полицейских управлений) и заменив их членами НСДАП, в основном из рядов СА и СС. Полиции строго запретили вступать в конфронтацию с боевиками СА, СС и «Стального шлема», зато было приказано «беспощадно бороться» с «врагами государства», при этом поощрялось применение огнестрельного оружия. 22 февраля (через 2 дня после встречи с промышленниками) Геринг своим приказом создал «вспомогательную полицию» численностью в 50 000 человек, причем комплектовать ее предполагалось следующим образом: 40 000 человек — из подразделений СА и СС, оставшиеся 10 000 — из «Стального шлема». По сути, все эти меры означали, что полиция в Пруссии (а Пруссия это примерно 2/3 Германии) была отныне не просто подконтрольна нацистам — она из них в значительной степени и состояла, частью из вчерашних штурмовиков, большей частью — из штурмовиков вполне сегодняшних. Члены новой «вспомогательной полиции» несли службу в своей партийной униформе, от обычных штурмовиков их отличала только не слишком приметная повязка на руке. Понять, кто ещё обычный штурмовик, а кто уже «вспомогательный полицейский», имеющий законное право задерживать, досматривать и проверять документы, было, надо думать, не всегда просто. Создание «вспомогательной полиции» было со всех практических точек зрения важнейшим (или даже ключевым) шагом к приданию чисто партийным организациям СА и СС официального статуса.

Конечно, угроза революции для нацистов была в первую очередь поводом для закручивания гаек. С другой стороны, они, похоже, исходили из того, что попытка восстания будет вполне настоящей — никто не верил, что коммунисты покорно снесут все репрессии. Тем не менее ожидаемая со дня на день революция все никак не начиналась. Сейчас, имея задним числом доступ к информации о том, что происходило в это время в среде германских левых, это кажется естественным и вполне логичным. Коммунистическая партия Германии сама по себе не обладала достаточными ресурсами для того, чтобы осуществить революцию. В рабочем движении в целом доминировали социал-демократы. Теоретически левые разных толков могли бы объединиться на базе антифашизма перед лицом прямой и непосредственной угрозы, но проблема была в том, что германские коммунисты не были самостоятельной силой. КПГ получала значительную часть финансирования — а вместе с ним, вполне естественно, и инструкций — из Москвы, по линии Коминтерна. Для зарубежных коммунистических партий Коминтерн в это время был чем-то гораздо большим, чем «международная ассоциация» или «организация сотрудничества». Он являлся — ни много ни мало — всемирной коммунистической партией, по отношению к которой отдельные «национальные» партии были лишь секциями, обязанными соблюдать субординацию. А позиция Коминтерна по ситуации в Германии была недвусмысленной — всякое сотрудничество с социал-демократами исключалось. За этим стоял сложный комплекс причин. Во-первых, в горячечном мире узколобых партийно-фракционных интриг, куда лидеры марксистов переехали уже давно, многим реально казалось, что гораздо большая угроза мировой революции исходит как раз от «розового» социал-демократического движения, от умеренных левых, готовых отказаться от насильственных методов борьбы и встроиться в существующую политическую систему, чем от «сил мирового фашизма». К тому же и понимание природы этого самого «мирового фашизма» было весьма слабым и неустойчивым (что подтверждается, кстати, самим фактом существования обобщающего термина «фашизм» — он означает, что у коммунистических идеологов отсутствовало понимание неоднородности фашизма как движения, сложности и глубины противоречий между отдельными его течениями — например, между собственно итальянским фашизмом и германским национал-социализмом, которые долгое время рассматривали друг друга весьма недружелюбно и сохраняли сомнения даже на пике военного союза). Вполне вероятно, что и однозначное понимание, кто такие нацисты — враги или союзники/попутчики — в Москве сформировалось еще не у всех. С одной стороны, Гитлер был знаменит своей непримиримой антикоммунистической риторикой. С другой, программа и пропаганда нацистов имели ощутимый левый налет, а в самой партии существовала влиятельная левая фракция, которая, теоретически, вполне могла еще взять верх. Да и разве сам Гитлер несколько раз не выступал de facto союзником коммунистической фракции в рейхстаге при важных голосованиях? Со стороны, без нашего послезнания, вопрос в тот момент и впрямь мог показаться не таким уж однозначным. Так или иначе, никакой попытки коммунистического восстания в Германии так и не случилось. Вместо этого значительная часть руководства КПГ просто ушла в подполье, а кое-кто бежал в СССР.
Ситуация начинала откровенно напрягать нацистское руководство. Коммунисты наотрез отказались им подыгрывать — а ведь именно неумолимо надвигающаяся зловещая угроза революции была универсальным оправданием всей той чрезвычайщины, которой нацисты занимались с момента назначения Гитлера. Многие из них и сами вполне искренне верили в угрозу, но это лишь усугубляло нелепость положения, в котором они оказались. В Германии 1933 года еще можно было задавать неудобные вопросы, и такие вопросы начинали вызревать. Пришлось срочно принимать меры. 24 февраля прусская полиция нагрянула в берлинскую штаб-квартиру КПГ, «Дом Карла Либкнехта». Партийный офис оказался пустым — руководство коммунистов покинуло его еще за пару недель до того. Тем не менее в подвале нашли много печатных материалов, пропагандистских брошюр и листовок. Геринг официально заявил, что среди прочего там были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что коммунисты готовили революцию — но он прекрасно понимал, что без предъявления конкретных недвусмысленных доказательств всё это звучит неубедительно. Публика встретила заявление скептическим молчанием. Почва начинала явственно уходить у нацистской пропаганды из-под ног.
Вечером 27 февраля 1933 года вице-канцлер фон Папен и президент фон Гинденбург ужинали в элитном Херренклубе в центре Берлина, буквально за углом от рейхстага. Смеркалось. Внезапно Папен, взглянув в окно, заметил в небе странные багровые отблески. Один из официантов, нагнувшись, шепнул ему на ухо, что горит Рейхстаг. Папен и Гинденбург кинулись туда, где из окна поверх крыш домов был виден характерный застекленный купол парламента. Он выглядел так, будто был подсвечен изнутри прожекторами. Вспышки, вырывавшиеся языки пламени и клубы черного дыма не оставляли сомнений в сути происходящего. Германский парламент горел, и горел хорошо.

Гитлер, которого в эксклюзивный клуб не пригласили, в этот вечер ужинал у четы Геббельсов в их фешенебельной квартире на Рейхсканцлерплатц. Фюрер в этот период своей жизни очень любил гостить у своих семейных соратников — видимо, это давало ему, вечному холостяку с запутанными и туманными взаимоотношениями с женщинами, ощущение некой социальной вовлеченности, «нормальности». После смерти первой жены Геринга эту функцию принял на себе Геббельс, как раз недавно женившийся на Магде Квандт, женщине разведенной, самостоятельной, обеспеченной, яркой и довольно социально активной, которая к тому же была всерьез увлечена нацистской идеологией еще до того, как познакомилась с будущим мужем. Ужин уже закончился, и компания сидела в гостиной, ведя расслабленную беседу, когда зазвонил телефон. Услышав новости, Гитлер и Геббельс немедленно помчались к месту событий, где уже застали сильно возбужденного, кричащего и размахивающего руками Геринга, командующего полицией и пожарными. Президент рейхстага, судя по всему, прибыл через считаные минуты после того, как сработала пожарная сигнализация. В принципе, сам по себе этот факт был совершенно не удивителен, поскольку его резиденция находилась прямо напротив, через площадь, и пожар он мог наблюдать из собственного окна. Уже был задержан подозреваемый в поджоге, странный молодой человек, которого заметили через окно шатающимся в холле Рейхстага непосредственно перед возгоранием. Задержанный очень кстати оказался голландским коммунистом по имени Маринус ван дер Люббе. Собственно, официальное расследование на этом кончилось — сначала Геринг, а вскоре и сам Гитлер выступили с заявлениями, которые однозначно возлагали вину за поджог Рейхстага на Коммунистическую партию. У Геринга — совершенно случайно, конечно же — при себе оказались готовые списки «врагов государства», которые и были немедленно переданы полиции и СА для целей розыска и задержания. Коммунисты оказались в этих списках почти в полном составе, но помимо них там значились имена многих социал-демократов (плюс на всякий случай добавили просто известных пацифистов). Геринг в запале грозился не просто арестовать всех красных, а «вздернуть их в ту же ночь», или, чуть позже, «пристрелить их как собак на месте». На практике до резни дело (пока) не дошло, но под стражу было взято около трех тысяч человек.
Кто на самом деле поджег Рейхстаг (и по чьему приказу) — вопрос, который, как ни странно, так и не получил ясного и однозначного ответа до сегодняшнего дня. Сам ван дер Люббе с готовностью признал свою вину (он был человек психически не вполне нормальный), свидетелей хватало. Проблема была в другом — горело сильно (настолько сильно, что все пожарные бригады Берлина два часа не могли ничего поделать. Здание превратилось в выжженный остов). Причем сильнейшее возгорание началось буквально через две минуты после того, как коммунист-поджигатель проник через окно (если верить его собственным показаниям). Никаких особых горючих материалов у голландца при себе не было — для розжига он использовал… собственную рубашку. Спрашивается, что же могло полыхнуть в злосчастном парламенте с такой силой и так быстро?
Слухи о том, что к пожару были так или иначе причастны сами нацисты, поползли почти сразу же. Конкретных материальных доказательств не было, но история выглядела подозрительно, и в особенности подозрительным казалось поведение Геринга, который будто заранее знал, что парламент загорится — чего стоили одни только пресловутые списки врагов! Многие знали, что здания Рейхстага и резиденции Геринга (расположенной, напомню, ровно напротив, через площадь) были соединены подземным ходом. Позднее европейские левые проведут свое собственное альтернативное расследование с привлечением различных экспертов (никто из которых, впрочем, лично не присутствовал на месте событий) и выдвинут версию, что примерно в одно время с ван дер Люббе (о намерении которого поджечь Рейхстаг нацисты знали и активно его к этому подталкивали — нашлись свидетельские показания о том, что голландца видели где-то в компании штурмовиков СА) в здание через тот самый подземный ход проникла хорошо подготовленная и оснащенная команда поджигателей (с бензином и всем необходимым). Пока злополучный пирокоммунист разводил свой слабенький костерок, эти люди и устроили настоящий, широкомасштабный, правильно спланированный пожар. Мозгом операции, естественно, называли Геринга (хотя кое-кто полагал, что изначально идея принадлежала Геббельсу). Учитывая все обстоятельства, версия выглядит правдоподобно — но, положа руку на сердце, необходимо все же помнить, что по-настоящему весомых доказательств непосредственно из 1933 года у нас нет.

Много позже, на Нюрнбергском трибунале, всплыли показания Гизевиуса, офицера Гестапо и служащего прусского Министерства внутренних дел, который подтвердил, что поджог был организован нацистами — но не им лично, конечно. Однако мы не можем точно сказать, говорил ли он правду, повторял общеизвестные слухи, или пытался выслужиться перед трибуналом, переложив побольше ответственности на своих бывших коллег. На том же трибунале генерал Франц Гальдер сообщил, что в каком-то застольном разговоре уже во время войны слышал, как Геринг прямо заявил: «это я сжег Рейхстаг». Уже в 1960-е годы в Германии выходили труды вполне серьезных и уважаемых историков, доказывавшие, что ван дер Люббе был единственным поджигателем, так что простор для сомнений остается. Автор, со своей стороны, склонен согласиться с версией о нацистском заговоре — по крайней мере, она выглядит весьма вероятной и хорошо согласуется с характером именно Германа Геринга — человека, весьма обаятельного внешне, но абсолютного циника внутри, с особым пристрастием к театральности и лицедейству (достаточно вспомнить его издевательство над Папеном в рейхстаге).
Никто, разумеется, не отрицает преступлений и общего правового нигилизма нацистов (эти люди были железно убеждены в своей правоте, а потому не особенно утруждали себя расследованиями и доказательствами), но сам по себе этот факт не делает коммунистов кристально чистыми и непогрешимыми. Не вызывает особых сомнений, что если бы в тот момент в Германии у власти оказалась Коммунистическая партия (тем или иным способом), последовала бы примерно такая же волна бессудного и противоправного террора. Ситуация, по большому счету, была из серии «вор у вора дубинку украл», а поражение коммунистов в борьбе с национал-социалистами было вызвано вовсе не стремлением оставаться в рамках правового поля и не благородным неприятием политического насилия, а вполне конкретными стратегическими просчетами в Москве.
Нацисты, конечно, попытались извлечь из пожара Рейхстага максимальный пропагандистский эффект. Лейпцигский судебный процесс, посвященный этому событию, задуман был как суд не над одним человеком, а над Коммунистической партией, и даже шире — над мировым коммунизмом в целом. Забавно, что в этом смысле надежд он совершенно не оправдал. Чтобы подчеркнуть политический и международный характер заговора, помимо ван дер Люббе на скамью подсудимых усадили главу парламентской фракции КПГ Эрнста Торглера, а также троих заезжих болгарских коммунистов, попавшихся в руки полиции (Георгия Димитрова и двоих его коллег, Танева и Попова). Однако никакого опыта организации публичных политических процессов у нацистов в 1933 году не было (да и ни у кого в мире еще не было — даже большие сталинские показательные процессы были еще впереди, и не исключено, что при их организации учли ошибки, допущенные германскими коллегами в Лейпциге). С ван дер Люббе, конечно, никаких проблем не возникло, он был быстро приговорен к смерти и обезглавлен на гильотине (именно так казнили по приговору суда в нацистской Германии), а вот с остальными вышел конфуз. Во-первых, их вину не смогли убедительно доказать. Во-вторых, Димитров (опытный и убедительный оратор) успешно использовал ту же самую тактику, которую в свое время применил сам Гитлер на суде в Мюнхене после «пивного путча» — вместо пассивной защиты перешел в нападение и начал пламенно обличать своих обвинителей, работая на публику и прессу, так что его пришлось много раз спешно удалять из зала суда, останавливая процесс. В итоге болгар экстрадировали в СССР, а Торглера оправдали. Правда, это уже не означало его автоматического освобождения.
Дело в том, что за прошедшее время (а Лейпцигский процесс — это ноябрь 1933 года) нацисты не сидели сложа руки, и Германия, в которой разворачивался суд над «поджигателями Рейхстага», уже сильно отличалась даже от той Германии, в которой произошел сам поджог. Уже утром 29 февраля (буквально на следующий день после пожара, когда почерневшее здание, должно быть, еще дымилось) Гитлер созвал экстренное заседание кабинета. Правительство оказалось перед лицом сильнейшего политического кризиса, объявил он, и преодоление его потребует решительных и чрезвычайных мер. Мер, на пути которых не должны вставать соображения права — не до щепетильности было в этот труднейший момент, когда Родина балансировала на краю пропасти. Разумеется, сам Гитлер не мог принять никаких «чрезвычайных мер», конституция не давала канцлеру таких полномочий — это должен был сделать президент. И, получив одобрение кабинета, тем же вечером Гитлер отправился на прием к Гинденбургу (в сопровождении Папена, в точности в соответствии с договоренностью). При себе у него был проект указа о чрезвычайном положении, который предполагалось принять в обход парламента, президентским декретом, в соответствии со всё той же статьей 48 Веймарской конституции. Указ этот, ни много ни мало, приостанавливал (на время «чрезвычайной ситуации» — называя вещи своими именами, на неопределенный срок) действие тех статей конституции, которые гарантировали права и свободы человека и гражданина в Германии. Свобода высказываний, свобода печати и собраний отменялись. Неприкосновенность личности, частной жизни и жилища серьезно ограничивались — полиция (то есть СА и СС) получила право произвольно врываться в дома с обысками, производить личный досмотр и задержание.

Естественно, очень быстро встал важный практический вопрос — а что, собственно, делать с таким количеством задержанных? Напомним, три тысячи человек — это только первая волна арестов, по «проскрипционным спискам» Геринга и за компанию с их фигурантами. А ведь это было только начало. Традиционные процедуры ареста, полицейские и судебные, требовали юридических оснований и к тому же соблюдения определенных формальностей — хотя бы в части оформления бумаг. От такого количества задержанных одновременно полиция попросту захлебывалась. Кроме того, задержать человека — это одно дело, но если в кратчайший срок ему не удастся предъявить ничего конкретного, его все-таки придется освободить, хочешь не хочешь. Делать этого нацисты, конечно, не собирались — не для того все затевалось, чтобы слегка попугать и выпустить. Задержанных надо было где-то держать — тюремная система Германии попросту не была рассчитана на такое количество заключенных.
Нацисты нашли простое и утилитарно-логичное решение, вполне в рамках обычного нацистского отношения к праву («право соблюдается до тех пор, пока это не вступает в противоречие с соображениями государственной целесообразности; если вступило — тем хуже для права»). Уже в первые дни террора СА начали сгонять попавших к ним в руки задержанных в импровизированные лагеря. 22 марта 1933 года заработал первый в Германии «официальный» концентрационный лагерь — Дахау.
Что такое концентрационный лагерь и в чем его принципиальное отличие от обычной тюрьмы? Отличие это юридическое, и оно чрезвычайно важно.
Тюрьма — это место, где отбывают лишение свободы в рамках уголовного права — либо в качестве наказания, либо в качестве предварительного заключения на время следствия. В любом случае, чтобы отправить человека в тюрьму, требуется решение суда. Смысл наличия в стране специальной судебной власти (в идеале, независимой) — в том, чтобы создать дополнительную гарантию соблюдения законности и защиты человека от произвола государственных органов. Даже суд, не являющийся на деле независимым, все же создает хотя бы видимость законности, и тем самым, по крайней мере, улучшает имидж государства на международной арене. Суд в любом случае обязан следовать определенной процедуре (обычно довольно сложной) и документировать свои действия. Если суд отправил человека в тюрьму, об этом должны остаться записи. Кроме всего прочего, в этих записях должны быть указаны основания, срок и условия заключения. Основанием для судебного приговора является установленный судом факт виновности подсудимого в совершении того или иного уголовно наказуемого деяния. Иными словами, отправить человека в тюрьму не так уж просто — его нельзя просто схватить на улице, бросить в застенок и забыть об этом, придется соблюсти уйму формальностей.
В отличие от тюрьмы, концентрационный лагерь находится вне уголовно-правовой (и вообще вне правовой) системы. В концлагерь человека отправляют в административном порядке, без всякого суда — простым росчерком пера чиновника. Чиновник отвечает только перед вышестоящим лицом в своей служебной иерархии, руководствуется исключительно должностными инструкциями (зачастую закрытыми), и не связан никакими условностями вроде уголовного кодекса, особенно в обстоятельствах нацистской чрезвычайщины. Он может обойтись минимумом записей или даже без записей вообще — просто фамилия оказалась включена к какой-то длинный список, а то и вовсе дело обошлось кратким устным распоряжением. Был человек — и исчез. Строго говоря, у чиновника даже нет необходимости устанавливать вину заключенного — достаточно простого факта целесообразности.

Нацисты изобрели удобную и универсальную формулировку — они говорили, что человек «взят под стражу в целях защиты». Защиты кого и от чего? А здесь можно было дать два разных ответа, в зависимости от ситуации. Если лицо было более-менее известным, обеспокоенным родственникам или любым другим лицам, пекущимся о жизни и правах задержанного, можно было сказать — «защиты его самого от его врагов и недоброжелателей». Ну вот узнало доброе германское государство, что жизни и здоровью его гражданина угрожает опасность — и решило припрятать его от греха подальше в безопасное место, пока опасность не пройдет. Напомню, что все это происходило, вообще-то, на фоне льющихся из всех динамиков, радиоточек и со страниц печати красочных рассказов о чудом предотвращенном коммунистическом мятеже, разветвленном заговоре, опутавшем всю страну, найденных зловещих документах, и тому подобных вещах. Благонамеренный обыватель вполне мог и поверить, что в распоряжении полиции оказались какие-нибудь «расстрельные списки», составленные коммунистами, в которых числилось имя его родственника/друга/сослуживца, и что теперь все, кто в них значился, временно взяты под охрану — пока полиция не убедится, что все красные заговорщики нейтрализованы. Чрезвычайная ситуация, а что вы хотели? Человеку зачастую достаточно лишь кинуть намек, без подробностей — его воображение само дорисует остальное. На первых порах (сразу после начала арестов), этого иногда хватало, чтобы успокоить людей в первом приближении.
Если же фигура задержанного была незначительной и не выглядела способной вызвать общественный резонанс, можно было сказать и по-другому. «Взят под охрану для обеспечения безопасности государства». Здесь также сохранялась двоякость — никто ни в чем конкретном человека прямо не обвинял. Конечно, может быть, что его заподозрили в причастности к антиправительственному заговору и решили на всякий случай пока изолировать. С другой стороны, он сам мог быть прямо ни к чему и не причастен, а просто относиться к некой категории лиц, которых германское государство по тем или иным причинам сочло опасными, ненадежными или нежелательными. В нацистской идеологии большое внимание уделялось понятию «асоциальности» — предполагалось, что определенные группы населения самим своим присутствием, образом жизни и мышления подрывают здоровье общественного организма и для блага общества их хорошо бы от этого общества профилактически изолировать. Опять-таки, это не подразумевало судебного приговора или даже установленного факта вины. Просто такой социальный инжиниринг, ничего личного. Самое главное (и самое удобное с точки зрения нацистов) — это произвольность, бесконтрольность и бессрочность такого заключения. В самом деле, если нет приговора суда, в котором указан срок, то заключение может продолжаться столько, сколько необходимо — пока обстоятельства не изменятся или пока не будет принято решение по каким-то причинам заключенного выпустить. Концлагерь был чем-то вроде темного чулана, в который любого человека в любой момент можно было спрятать с глаз долой — а потом, если понадобится, с такой же легкостью его из этого чулана достать. Если он ещё не умер.
Позже, уже во времена «развитого» Третьего рейха, суды стали назначать заключение в концентрационный лагерь как самостоятельное уголовное наказание, альтернативное обычной тюрьме — то есть произошло уже смешение понятий. Или, точнее, система чрезвычайного террора стала поглощать сохранившиеся остатки традиционного уголовного правосудия, подобно тому, как нацистская партия поглощала институты германского государства, постепенно стирая грань между партийными и государственными структурами.
Так или иначе, к осени 1933 года у нового режима в Германии была эффективно отработана технология произвольной внесудебной изоляции своих противников, и поэтому оправдание в обычном уголовном суде (каковым был Лейпцигский процесс) само по себе еще совершенно не означало освобождения. Получив оправдательный приговор, Торглер тут же был «взят под стражу с целью защиты» — грубо говоря, переехал из обычной тюрьмы в концлагерь, уже безо всяких гарантий и на неопределенный срок. В его случае, правда, этот срок оказался не особенно долгим — правительство Рейха сочло, что бывший коммунист может оказаться полезен, и уже в 1935 году Торглера не только выпустили на свободу, но и взяли на работу в Министерство пропаганды, где он и трудился в поте лица до самого конца войны. Благополучно пережив «тысячелетний рейх», Торглер даже попытался восстановить свое членство в КПГ. Бывшие товарищи его не приняли — были сведения, что за время своего труда на благо Рейха жертва режима успела посотрудничать еще и с гестапо. Был ли у Торглера выбор — вопрос риторический, но недоверие к человеку после подобных кульбитов кажется вполне логичным.
Далее: часть вторая







