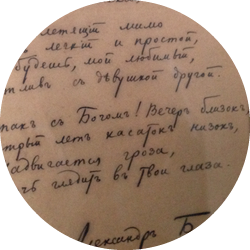Никита Струве — Олегу Кашину:
«Мы побили мусульман, но готовится новая битва»
Во второй части диалога с Олегом Кашиным филолог и историк Никита Струве объясняет, почему Александр Солженицын не стал русским Гавелом, вспоминает парижские волнения 1968 года и возмущается исчезновением французов из пригородов Парижа. Первую часть беседы можно прочитать здесь.
Часть вторая
У нас сейчас популярно такое примирительное отношение к сталинизму — 60-70 лет назад гуманизма в том виде, к которому мы привыкли сейчас, не было, отношение к человеческой жизни было другое, чем теперь, и если в России людей расстреливали, в этом ничего шокирующего и нет, власть во всех странах была жестокая.
Ну, везде не расстреливали, слава Богу, но проблема даже не в этом, а в том, что теперешнее самодовольство в принципе исключает покаяние. Это удобно и для Путина, и для патриарха Кирилла, и это проблема, да. Мне претит этот союз государства и церкви, тем более что я помню, как совсем недавно все было иначе. Я дружил с патриархом Алексием II, я ездил в Россию, он меня всегда хотел принимать. Он ведь тоже был из эмиграции.
Из Эстонии, да. Но многим казалось уже тогда, при патриархе Алексии, церковь стала недопустимо близка к Ельцину, а потом к Путину.
Это было, да, но Ельцин не был идеологом и, наверное, поэтому не злоупотреблял оношениями с церковью. У него, мне так казалось, была какая-то народная непосредственность, он не был полностью испорчен властью.

Человек с сорокалетним опытом в КПСС? Не могу поверить, извините.
Поверить трудно, но, может быть, из-за этого он и спился? Я его не идеализирую совершенно, но сам наблюдал в нем что-то человеческое. Видел его на каком-то собрании в советском посольстве, и его спросили о его отношении к религии, и он сказал, что он человек неверующий, но иногда, когда он присутствует в церкви, ему кажется, что он от чего-то очищается, от властности очищается. Путин ничего бы такого не сказал.
Но шанс на превращение России в европейскую страну был утерян все-таки при Ельцине, не при Путине.
Не знаю, был ли он утерян или не мог не быть утерян. Как его было удержать, что нужно было делать?
Солженицын же писал, как обустроить Россию — земства, местное самоуправление. А эти наоборот, начали строить вертикаль практически сразу же.
Земства — это все-таки тоже результат чего-то, результат как минимум культуры. Откуда было в советской России взяться земским людям? Земство — это высокая местная культура, и мы с вами не знаем, осталась ли она в России после семидесяти лет подавления. Может быть, то, что происходит сейчас в России, было неизбежно? Может быть, даже какой-то особенный, провиденциальный человек ничего бы не смог сделать, потому что это не вопрос человека, это вопрос общества.
Это как раз любимый аргумент и Ельцина, и Путина — общество не готово. Как будто в Восточной Европе или в Прибалтике было принципиально другое общество.
Семидесяти лет сталинизма у них все-таки не было.
Было пятьдесят, тоже нормально.
Это была оккупация, это совсем другое, это внешнее что-то.
Да, но Россию ведь тоже можно посчитать оккупированной, отнестись к большевикам как к пришельцам.
Но пришельцы откуда? От себя же!
Ну как от себя? Все руководство бериевского НКВД — это такое закавказское землячество, Кобулов, Меркулов, Деканозов и прочие. А виноват русский народ, ну как так?
Нет, вы правы, русский народ в этом не виноват, он жертва. Конечно, он жертва.
Такая же, как эстонцы. Может даже, большая жертва.
Большая, конечно! Я думаю, что тут все-таки вопрос времени и вопрос избиения. Было действительно избиение народа. И это остается непонятным не только с точки зрения России, что это произошло с Россией, но это метафизически очень трудно понять — до чего может дойти человек, государство. Это метафизически непонятно.
Хотел бы вернуться к этой новой путинской духовности. Для многих, и даже для меня еще пять лет назад, был такой стереотип: на Западе восторжествовала безумная толерантность, диктатура меньшинств, и как раз Запад очень страдает не несвободы. Сегодня в России появилась своя политкорректность, своя толерантность, но при этом она как раз навязывает культ большинства, а не меньшинства. Это тоже удивительная разница. У вас нельзя обижать евреев или геев, а в России нельзя обижать ветеранов и натуралов. Принцип один и тот же, но вот есть такая разница.
То, что вы называете европейской политкорректностью, это было таким желанием равенства, но и равенство имеет свои границы, и здесь иногда эти границы переходят. Маятник качается, но Франция — страна скорее, уравновешенная по природе своей. Небольшая, культурная, и культура жизни остается. И то, что все эти законы для меньшинств вызывают некоторое противление, показывает, что есть какие-то живые силы, они не обязательно правы во всем, но живые силы, которые этому противодействуют. Так что во Франции, в отличие от большинства французов, я как-то не теряю надежды, что она еще некоторое время проживет своей доброй жизнью.
А этнический дисбаланс вы как воспринимаете? У нас тоже такой штамп, что Франция чернеет, заполняется арабами, африканцами. Это проблема или нет? Как я это вижу: сейчас приезжаешь в Марсель, идешь по улице — да, лица преимущественно не белые, но при этом идет человек, он чернокожий, но он француз, он одет, как француз, он говорит, как француз, и здесь какой-то трагедии и проблемы нет. Или я ошибаюсь и на самом деле проблема есть?
Проблема все-таки есть, она двойная. Конечно, колониализм был греховным явлением, но он нес и некоторую цивилизацию в колонизируемые страны. И Франция скорее, уравновешивала недостатки колониализма с положительными моментами. Но сейчас другое время, я говорил в своих лекциях в Сорбонне, в университете, что мы знамениты битвой при Пуатье, мы побили мусульман, но готовится новая битва.

И проблем не было у вас из-за таких речей?
Нет, конечно, проблем не может быть. Я говорил, что будет новая битва, и мы не знаем, чем она кончится, и какая она будет. Но, конечно, какая-то опасность есть. Даже в нашей местности, такой все-таки подпарижской, не самой популярной, не самой бедной, чернокожих становится гораздо больше, чем было 50 лет назад. А уж на севере Парижа, в северных предместьях, там вообще, попадаешь в эту местность, и такое впечатление, что ты не во Франции.
При этом во французском же нет аналога нашему слову «россиянин», даже не нашему, а это Ельцин ввел, карамзинское слово, но такое постсоветское, политкорректное. Есть русские, и есть многонациональные россияне.
Россиянин? Не знаю, что это значит. Человек, в котором нет русской крови, но который признает русскую культуру? Вот во мне ни капли русской крови.
Ну, что такое русская кровь? Русская кровь — это портреты на стене и книги, а у вас на стене отец Сергий Булгаков висит.
А ты [обращаясь к жене] гордишься, что у тебя русская кровь, ты любишь гордиться, что у тебя русская кровь! Я думаю, что важнее — то, в каком состоянии сегодня Россия. Мы называем ее постсоветской Россией, и в этом какая-то неполноценность. Как-то нужно постсоветской России высвобождаться от своей постсоветскости. Когда я ездил в Россию, читал всякие лекции, я всегда любил говорить, что Россия слишком большая, нужно ее сузить, но это очень плохо воспринималось — тогда.
Сейчас за призывы сузить Россию у нас вводят уголовную статью. Но вообще — какого будущего вы боитесь для России? Вот я боюсь, что все будет так же, как теперь. Жизнь проходит, а не меняется ничего.
Отчасти я тоже этого не боюсь, но опасаюсь — что очень трудно будет избавиться от этого постсоветского состояния. Кажется, что Россия немножко никнет.
Или сникла уже окончательно, потому что — ну, бывают же страны, которые умирают.
Все-таки даже частному человеку на так легко иногда умереть, а тем более стране. Все-таки страна дала великую культуру, мировую, и не только культуру. И народ все-таки — до сих пор я встречают людей, французов, которые часто ездят в Россию и до сих пор удивляются, продолжают удивляться русскому человеку, его непосредственности, его какой-то доброте, которая не всегда чувствуется во Франции. Она имеется тоже, но вот такой непосредственности, общительности. Я думаю, рано или поздно возьмет верх то, что сейчас кажется немножко, наоборот, затушенным.
Еще есть такое качество русского человека, вот я недавно перечитывал «Фрегат „Палладу“» Гончарова, и там он пишет про Филиппины: подают чай, он пьет, и чай ему кажется ужасным. И он от себя добавляет, что странно, люди сами выращивают чай, но чай у них почему-то невкусный, по-настоящему заваривать и пить чай умеют только в России. Если бы сегодня наш путешественник попал в такую ситуацию, он бы написал: какой изысканный чай на Филиппинах, какой он вкусный, а в России не умеют заваривать, он слишком крепкий.
Ну, это не самое плохое как раз. Французы тоже всегда недовольны собой и всегда немножко протестуют, им кажется, что все плохо. Россия, может быть, соблазняется таким недовольством, но недовольство как раз может проявиться и в чем-то положительном. Это лучше, чем самодовольство — я-то думаю, что более опасен этот возврат к какой-то, в общем, мягкой, но советской идеологии.
Тоталитарной во многом. Не так, как раньше, но уже тоталитарной.
Вы думаете, Россия вернется назад к советскому? Я думаю, возврата тоже не может быть. В моем возрасте трудно быть слишком большим пессимистом. Для меня Россия сейчас некоторая загадка, но я уверен, что она из этого выйдет и преодолеет этот возврат.
Да, может быть, и преодолеет, но это ведь половина дела. Для европейцев русские теперь будут чужими, и мы не вернемся в начало 20-го века уже, видимо, никогда.
Почему чужими?
Ну, так получилось. Потому что сегодня Россия — это Путин, православие патриархо-кирилловское и прочие вещи.
Ну и Запад все-таки сейчас имеет свои проблемы. Иногда тоже люди увлекаются чем-то не тем. Путинская Россия, о которой вы говорите — это тоже ведь в каком-то смысле абстракция.
Мы в этой абстракции 15 лет уже живем.
Но Запад сегодня тоже неинтересен России. У нас на Западе что сейчас яркого?
Ну, есть на Западе как минимум одна вещь, которая интересна русскому народу, это Голливуд. И пока у нас показывают американские фильмы, нет изоляции, а когда перестанут, тогда уже надо будет переживать.
Голливуд тоже сникнет, поверьте. Из этого трудно делать выводы. И Франция опустошается, хотя она малюсенькая страна по сравнению с Россией.
Франция опустошается, а Россия давно опустошилась. Солженицын еще когда писал о России в обвале. Кстати, он же последние годы жизни, когда жил уже в Троице-Лыкове, он же по сути принял Путина и согласился с Путиным как с человеком, ведущим Россию в правильную сторону. Я Солженицына люблю, Путина нет, и мне кажется, что, наверное, в каком-то возрасте у человека есть потребность в том, чтобы принять окружающую реальность и доказать себе, что наступило вот то время, о котором ты мечтал. Я думаю, как раз Солженицын себя в этом смысле уговорил все-таки.
Он в последние годы очень разочаровался, вообще. Не в Путине, тут вопрос не только в личности. Он разочаровался в России немножко, в будущем России, мрачнее смотрел. Солженицын в последние годы своей жизни мрачнел. Потому что он понял, что России выйти на какое-то более широкое дыхание очень трудно.
Надо было ему самому становиться политиком в девяностом году, как Вацлав Гавел.
Нет.
А почему?
Потому что люди не могут всем быть. Он был гениальным писателем, гениальным свидетелем, гениальным человеком, вообще ведомым провидением, в которое он верил, потому что столько раз избегал смерти. А политиком он не мог быть, но ему хотелось видеть в России лучшее будущее.
Но в семидесятые он был политиком по сути, когда в одиночку там побеждал советскую власть постоянно, каждый день.
Он ее побеждал, да, но духовно и, это другое.
Кто больше политик — Солженицын или Брежнев? Наверное, Солженицын, потому что Брежнев — он вообще кто? Никто.
Да, Брежнева забыли, но это не значит, что Солженицын политик. Именно политиком все-таки он не мог быть. Даже если бы он был моложе, я никогда в это не поверю.
Может быть. Я помню, когда вышла «Как нам обустроить Россию», ее все читали, и все думали: что за глупости здесь написаны, о чем это вообще. А сейчас читается именно как такая несбывшаяся программа правильного развития России.
Да, там ничего неправильного нет, но немножко утопично. Земства — это для другого общества, которого в России в 1990 году не было.
Но вы же ездили по России, видели библиотекарей, филологов, университетских людей каких-то, провинциальную интеллигенцию. Тогда она была, а сейчас ее загнали куда-то под стул.
Да, и сейчас сталинизм реабилитируют. Я не понимаю — как, почему? Россия снова готова строить коммунизм?
Коммунизм точно никто не будет строить, не волнуйтесь. Даже Зюганов, когда он выступает на митингах к 7 ноября, произносит речь не о Ленине, не о Сталине, а о патриархе Гермогене, которого теперь считает своим почему-то духовным предшественником. Коммунизма как течения общественной мысли как раз в России нет, трудно быть левым в бывшей коммунистической стране. Левым веселее быть во Франции в 1968 году, а не в России.
1968 год во Франции— это тоже была дешевка. Это происходило в моем университете, так что я это хорошо знаю и переживал, меня даже заперли в аудитории студенты, которые были против того, что я им говорил, разумеется. Но это все такое несерьезное было. Я знал, что такое русская революция — и что, вы хотите, чтобы я эти волнения в университете воспринимал всерьез?!