Текст: Нассим Талеб, блог на сайте medium.com. Перевод: «Спутник и Погром»

Есть ситуация, которая, на мой взгляд, лучше всего иллюстрирует принцип работы сложных систем. Непримиримому меньшинству определённого рода достаточно достичь ничтожно малого размера, скажем, трёх или четырёх процентов от всей популяции, чтобы популяция целиком подчинилась его желаниям. Мало того, дальше создаётся оптический обман: наивному наблюдателю кажется, что выбор по-прежнему зависит от предпочтений большинства. Если эта идея выглядит абсурдной, то только потому, что наша научная интуиция не выстроена под такие вещи (строго говоря, научная интуиция и прочие рационально обоснованные прикидки не работают; обычная рационализация непригодна в случае сложных систем — если не брать житейскую мудрость вашей бабушки).
Суть сложных систем в том, что совокупность никогда не ведёт себя так, как это можно предположить по поведению отдельных частей. Взаимосвязь и внутренние отношения между частями целого здесь важнее, чем природа собственно частей. Изучая отдельного муравья, мы никогда (в большинстве таких ситуаций можно смело говорить «никогда») не поймём, как устроен муравейник. Для этого нам понадобится рассматривать муравейник как муравейник, ни больше, ни меньше, а не как группу муравьёв. Это эмергентное свойство целого — целое и совокупность целого не тождественны, потому что характер этого целого в значительной степени определяют взаимодействия между его частями. Эти взаимодействия могут подчиняться очень простым правилам. Правило, которое мы обсудим в этой главе — правило меньшинства.
Правило меньшинства покажет, что обществу для нормальной работы достаточно небольшого числа нетерпимых и этически сознательных людей, при этом деятельных (то есть смелых).
Этот пример сложности пришёл мне в голову, что забавно, на летнем барбекю Института комплексных систем Новой Англии (New England Complex Systems institute). Хозяева расставляли столы и распаковывали напитки, и ко мне подошёл мой друг, который принципиально употребляет только кошерное. Я предложил ему стакан той жёлтой сладкой воды с лимонной кислотой, которая сейчас называется лимонадом, и был почти уверен, что он откажется, сообщив, что ему нельзя. Он не отказался. Он выпил этот так называемый лимонад, и другой приверженец кошерной пищи заметил: «Тут все напитки кошерные». Мы осмотрели упаковку. Нашёлся мелкий шрифт: небольшой символ в форме буквы U в круге, обозначавший кошерность продукта. Люди, которые знали, где смотреть, его заметили. Все остальные, включая меня, все эти годы пили кошерные напитки, не зная, что они кошерные, и разговаривали прозой, не зная, что это проза.

Упаковка лимонада — символ обозначает, что лимонад кошерный (не метафорически)
Преступники, у которых аллергия на арахис
А дальше мне в голову пришла странная мысль. Сторонники кошерной пищи — это меньше трёх десятых процента населения США. Но все напитки при этом кошерные. Почему? Потому что кошерный продукт позволяет производителю, продавцу и ресторатору не делать различий между кошерными и некошерными напитками и не беспокоиться о специальных символах, отдельных кранах, отдельных стойках, отдельных подсобках. Таким образом, простое правило, которое изменяет сумму слагаемых, вот:
Приверженец кошерного (или халяльного) не может есть некошерное, обычный человек может есть кошерное.
Тот же пример в другом антураже:
Инвалид не сможет пользоваться туалетами для обычных людей, но обычный человек может пользоваться туалетами для инвалидов.
Иногда, правда, возникает путаница — люди знают, что на парковках для инвалидов могут парковаться только инвалиды, и распространяют этот принцип на туалеты.
Человек, у которого аллергия на арахис, не может есть еду с арахисом, но человек без аллергии на арахис может есть продукты без арахиса.
Как раз по этой причине в самолёте так сложно добыть пакет арахиса, а в школах его не бывает вообще (что, кстати, умножает число аллергиков, потому что одна из причин подобной аллергии — как раз реакция организма на незнакомое вещество).
А теперь применим это правило к более интересным областям:
Законопослушный человек никогда не совершит преступление, преступник может заниматься легальными вещами.
Назовём такое меньшинство непримиримым, а большинство — гибким. Само по себе правило — это асимметрия в выборе.
Я однажды пошутил над своим другом. Дело происходило давно, в те времена, когда табачные компании всячески скрывали информацию о вреде пассивного курения и в Нью-Йоркских ресторанах в обязательном порядке были зоны для курящих и для некурящих (курить, как ни странно, разрешалось даже в самолётах). Мой друг прилетел в гости из Европы, свободные столики в ресторане нашлись только в зале для курящих, и я убедил его, что нам придётся покупать сигареты, потому что в зоне для курящих обязательно курить. Он поверил.
Ещё два момента. Во-первых, играет роль география, то есть пространственное распределение: очень важно, как распределены непримиримые — они либо держатся группой, либо смешаны с остальной популяцией. Если непримиримое меньшинство в нашей схеме живёт в гетто, внутри своей собственной обособленной экономики, то правило меньшинства перестаёт работать. Но если популяции перемешаны равномерно, если процент такого меньшинства в районе такой же, как в деревне, в деревне такой же, как в округе, в округе такой же, как в регионе, а в регионе такой же, как в стране, то (гибкое) большинство вынуждено будет подчиниться воле меньшинства. Второй момент — это цена. В нашем первом примере себестоимость кошерного лимонада не сильно больше, чем себестоимость некошерного, и таким образом она не влияет на происходящее. Но если бы производить кошерный лимонад было заметно дороже, то контроль меньшинства был бы ослаблен пропорционально разнице в стоимости. Если бы кошерная еда стоила в десять раз дороже, то правило меньшинства не работало бы нигде кроме самых богатых районов.
У мусульман тоже есть своя кошерная еда (халяль), но правила здесь более узкие и относятся только к мясу. У мусульман и иудеев практически идентичные принципы забоя скота (всё кошерное халяльно для мусульман-суннитов, по крайней мере, в последние несколько веков, но не наоборот). Важно, что это активная практика, которая стоит своим приверженцам определённых усилий — она унаследована от древних семитских и греческих культур Средиземноморья, которые считали, что богам нужно жертвовать необходимые вещи (то есть часть мяса, а есть то, что осталось). Боги не любят дешёвые жесты.
Теперь посмотрим на практическую реализацию диктатуры меньшинства. В Великобритании, где (практикующих) мусульман три-четыре процента, почти всё мясо халяльное. До семидесяти процентов говядины, ввозимой из Новой Зеландии, халяльны. До десяти процентов всех точек сети Subway халяльные — то есть вообще без свинины, несмотря на убытки из-за конкуренции с другими сетями, где свинина есть. В Южной Африке тоже три или четыре процента мусульман, но там в магазинах непропорционально высокий процент халяльной курятины. Но в Великобритании и других христианских странах халяль не может вытеснить всё остальное мясо целиком, потому что здесь есть другие, конкурирующие нормы. Как, хвастаясь своей верой, писал арабский христианский поэт VII века Аль-Ахталь: «Я не вкушаю жертвенную плоть».
Можно предполагать, что эта эмоция распространится и на Западе по мере того, как будет умножаться мусульманское население Европы.
Таким образом, правило меньшинства может на практике увеличить долю халяльной еды в магазинах непропорционально количеству реальных потребителей халяля, но до определённого предела, потому что для некоторых групп мусульманская еда — табу. Но что касается кошерной еды, то тут предел распространения близок к ста процентам (или около того). Производители «органической» еды продают всё больше и больше своей продукции как раз благодаря правилу меньшинства и ещё потому что обычная, не снабжённая специальной этикеткой еда, теперь воспринимается как начинённая пестицидами, гербицидами и мясом трансгенных организмов, «ГМО» — со всеми сопутствующими неизвестными рисками. (Под «ГМО» мы в этом контексте имеем в виду трансгенную еду, источник которой имеет гены других организмов или видов). Но здесь могут быть экзистенциальные причины, простая осторожность или консерватизм в духе Бёрка — возможно, некоторые люди просто не хотят слишком далеко и слишком быстро отходить от диеты своих предков. Наклейка «органическая еда» — способ сообщить, что в продукте нет трансгенных ГМО.
Продвигая генетически модифицированную еду всеми способами — лоббизм, подкуп конгрессменов и просто неумеренная пропаганда в научных кругах (включая сюда и чёрный пиар, направленный против людей вроде вашего покорного слуги) — крупные сельскохозяйственные конгломераты пытаются завоевать симпатии большинства, думая, что это принесёт им победу. Да нет же, идиоты. Как я уже говорил выше, наукообразная «логика» в данном случае не работает. Сторонники ГМО согласны есть еду без ГМО, но не наоборот. Для того, чтобы всей популяции обычных людей пришлось есть еду без ГМО, достаточно небольшого (не больше 5%) равномерно распределённого меньшинства, категорически не приемлющего ГМО. Почему? Ну представьте — вы организовываете фуршет, свадьбу, грандиозную вечеринку в честь падения Саудовской монархии или разорения ростовщического инвестиционного банка Goldman Sachs, церемонию публичного поношения Рэя Котчера, председателя Ketchum, фирмы, которая занимается чёрным пиаром против учёных и активистов по заказу больших корпораций. Что дальше — разослать опросник, чтобы выяснить, какие из ваших гостей не употребляют генномодифицированные продукты и приготовить им еду отдельно? Да нет, вы просто покупаете еду без ГМО на всех при условии, что разница в цене не принципиальна. А она действительно не играет большой роли, потому что цены на скоропортящуюся еду в Америке на 80–90% определяет логистика, а не себестоимость. И так как спрос на органическую («натуральную») еду больше благодаря правилу меньшинства, логистические затраты уменьшаются, а правило меньшинства усиливает своё действие.
Большие сельскохозяйственные корпорации не поняли, что пытаются играют в игру, где для победы надо набрать не просто больше очков, чем противник — чтобы чувствовать себя в безопасности, придётся выиграть со счётом 97 из 100. Странно видеть, как огромная корпоративная машина, с её миллионами долларов, потраченными на исследования, чёрный пиар и учёными, которые считают себя умнее среднего человека, не приняла во внимание эту асимметрию в выборе.
Другой пример. Не факт, что автоматические коробки передач вытесняют с рынка ручные только потому, что большинство водителей предпочитает автоматику: возможно, дело просто в том, что человек, который привык к механике, может спокойно водить автомат, но не наоборот.
Метод анализа, который здесь использован, называется ренормализационной группой. Это мощное средство математической физики, которое позволяет увидеть, как масштабируются явления (укрупняясь и наоборот). Поговорим об этом — дальше без математики.
Ренормализационная группа
Схема ниже показывает то, что называется фрактальным самоподобием. В каждом большом квадрате четыре маленьких, и так до бесконечности — в обратную сторону это тоже работает, до определённого предела. Есть два цвета: жёлтый обозначает большинство, розовый — меньшинство.
Предположим, что каждый маленький квадрат — это четыре человека, одна семья. Один из них принадлежит к непримиримому большинству и ест только еду без ГМО («органическую»). Цвет его квадрата — розовый. При переходе на уровень выше происходит «ренормализация»: упрямой дочери удаётся навязать свою волю всем четверым, и теперь в розовый окрашен весь большой квадрат, то есть все четверо предпочитают органическую еду. Следующий шаг: эта гипотетическая семья едет на барбекю вместе с тремя другими семьями. Про них известно, что они не едят ГМО, так что хозяева готовят органическое — на всех. Местный магазин, сообразив, что в округе есть большой спрос на еду без ГМО, переходит на неё полностью, чтобы упростить жизнь себе и покупателям, потом эффект доходит до местного поставщика, и так «ренормализация» продолжается до самого верха.
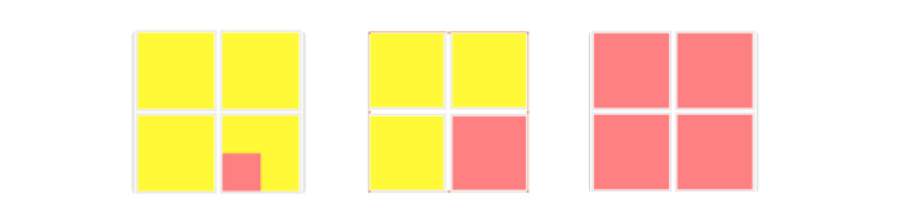
Ренормализация
По совпадению за день до бостонского барбекю я фланировал по Нью-Йорку и заглянул в офис к другу, которого хотел отвлечь от работы — при помощи занятия, которое, если им злоупотребить, вызывает потерю ясности мысли, плохую осанку и пустоту во взгляде. Оказалось, что в городе французский физик Серж Галам, и время он убивает как раз в офисе у моего друга. Галам первым применил принцип ренормализации к социальным вопросам и политологии; я слышал его имя, потому что он считается автором самой авторитетной книги на эту тему, которая к тому моменту уже несколько месяцев лежала у меня в подвале в нераспакованной посылке от Amazon. Галам рассказал мне о своих исследованиях и продемонстрировал компьютерную модель выборов — она наглядно показывала, что меньшинству достаточно пересечь определённый порог численности, чтобы его выбор стал доминирующим.
То же самое заблуждение распространено в политике, его активно распространяют «политологи»: считается, что если ультраправых или ультралевых поддерживает десять процентов населения, их кандидат столько и получит. Нет. Эти базовые голоса нужно отнести к числу «негибких», такие избиратели всегда будут голосовать только за свою фракцию. Но некоторые из гибких избирателей могут проголосовать за экстремистов, точно так же, как обычные люди могут есть кошерное. Именно за такими избирателями нужно наблюдать пристальнее всего — они могут в любой момент ринуться в ряды радикальной партии. Модели Галама вступают в противоречие с устоявшимися доктринами политологии — и его прогнозы оказались гораздо точнее, чем наивное общее мнение.
Вето
Пример с ренормализацией показал, как при помощи права вето один человек в группе может определять выбор всей группы. Рори Сазерленд предполагает, что именно по этой причине некоторые сети фастфуда, например, Макдональдс, процветают — не потому, что они предлагают отличный продукт, а потому, что на них не накладывает вето никакая социально-экономическая группа — или небольшая прослойка внутри такой группы. Иными словами, у них минимальное негативное отклонение от ожиданий: ниже средний уровень, ниже колебания.
Когда выбора мало, Макдональдс воспринимается как надёжный и предсказуемый вариант. Кроме того, это надёжный вариант в тех местах, где еда с сюрпризом может означать серьёзные последствия — я пишу эти строчки на миланском вокзале, и, как ни странно это видеть пришельцу из-за океана, здесь есть Макдональдс, и итальянцы активно пользуются им как страховкой от рискованного обеда.
То же самое с пиццей: это универсальная еда, которую все терпят, и она допустима в любой обстановке, за исключением, может быть, торжественного приёма.
Рори привёл мне ещё один пример, выбор между вином и пивом на вечеринках: «Если среди гостей больше десяти процентов женщин, покупать только пиво нельзя. Но мужчины спокойно пьют вино — это, выражаясь медицинским языком, универсальный донор».
Lingua Franca
Если деловая встреча происходит в Германии, в тевтонского вида конференц-зале достаточно интернациональной или по крайней мере европейской корпорации, и один из присутствующих не говорит по-немецки, то весь разговор пойдёт… на английском языке той неизящной разновидности, которая повсеместно используется в корпорациях всего мира. Это их способ в равной степени надругаться над своими тевтонскими предками и английским языком. Та же асимметрия: неангличане, скорее всего, знают (плохо) английский, обратное (англичанин знает местный язык) менее вероятно. Когда-то языком дипломатии был французский — его знали дипломаты, обычно происходившие из аристократических семей, а их более вульгарные соотечественники, занятые коммерцией, обходились английским. В войне двух языков английский выиграл — потому что коммерция целиком овладела современной жизнью; его победа мало связана с престижем Франции или с попытками её сынов продвинуть свой красивый, латинизированный и орфографически логичный язык вместо безнадёжно запутанного наречия поедателей мясных пирогов с другого берега Ла Манша.
Таким образом, становится яснее, как появление lingua franca может быть обусловлено правилом меньшинства — и это часто неочевидно для лингвистов. Арамейский — семитский язык, который наследовал ханаанскому (то есть языку финикийцев и иудеев) в Леванте и напоминает арабский; на нём говорил Христос. Причина, по которой арамейский играл такую роль в Леванте и Египте — не некая могущественная семитская империя и даже не носы интересной формы. Арамейский — язык Ассирии, Сирии и Вавилона — распространяли персы. Персы научили египтян чужому для себя языку. Когда персы покорили Вавилон, они обнаружили готовый административный аппарат, но писцы не понимали персидского, и государственным языком стал арамейский. Если секретарю можно диктовать только на арамейском, значит, придётся пользоваться арамейским. Это приводило к курьёзным ситуациям — например, арамейским пользовались в Монголии, потому что писцы заполняли документы сирийским письмом (сирийский — восточный диалект арамейского). Века спустя история повторилась в зеркальном отображении — арабы в VII и VIII веках нашей эры использовали для государственных дел греческий. В эпоху эллинизма греческий заменил арамейский в Леванте в качестве lingua franca, и писцы Дамаска составляли документы именно на нём. Но греческий распространяли не греки, а завоевания Александра (тоже не грека, а македонца, греческий был для него был вторым языком — не говорите этого при греках, они впадают в ярость) не привели к немедленной глубокой эллинизации. Греческий распространился при римлянах, которые в восточной части своей империи использовали его как государственный язык.
Александр Македонский способствовал распространению неродного для себя греческого языка на Средиземноморье
Мой франко-канадский друг из Монреаля однажды так описал гибель французского языка повсюду кроме глухой провинции: «В Канаде когда говоришь „двуязычный“, имеешь в виду „англоязычный“ — настоящие билингвы здесь только франкофонные».
Одностороннее движение на улице религий
В определённом смысле распространение ислама на Ближнем Востоке, в регионе, где христианство когда-то было укоренено очень глубоко (оно здесь родилось), можно объяснить двумя простыми асимметриями. Первые исламские владыки не особенно интересовались христианами и не пытались обратить их в ислам, если те исправно платили налоги — исламская проповедь не касается так называемых «людей книги», то есть приверженцев других авраамических религий. Собственно, мои предки, которые тринадцать веков прожили под властью мусульман, видели в своём положении некоторую выгоду: их не призывали в армию.
Вот два асимметричных момента, о которых идёт речь. Во-первых, если иноверец в мусульманской стране женится на мусульманке, он обязан перейти в ислам — и если любой из родителей ребёнка мусульманин, ребёнок будет мусульманином. Во-вторых, однажды приняв ислам, перестать быть мусульманином невозможно, так как отступничество в этой религии это самый тяжелый из грехов, и оно карается смертью. Известный египетский актёр Омар Шариф (имя при рождении — Мишель Демитри Шальхуб) родился в семье ливанских христиан. Он перешёл в ислам, чтобы жениться на популярной египетской актрисе, ему пришлось взять арабское имя. Потом он развёлся, но к вере своих предков уже не вернулся.
Эти два асимметричных правила демонстрируют, как власть небольшого исламского меньшинства в христианском (коптском) Египте века спустя превратила коптов в крошечное меньшинство. Всё, что для этого потребовалось — небольшое количество браков между мусульманами и христианами. То же самое с иудаизмом, который почти не распространяется и остаётся уделом меньшинства: там действует противоположное правило: мать обязательно должна быть иудейкой, и половина детей от браков с иноверцами автоматически выпадает из сообщества. Ещё более сильная асимметрия, чем в иудаизме, объясняет вымирание трёх гностических религий: друзов, езидов и мандеев (в гностических религиях таинства обычно доступны только небольшой группе старейшин, а остальная паства смутно представляет себе детали своей веры). В отличие от ислама, где одному из родителей достаточно исповедовать ислам, и иудаизма, где от матери требуется иудейское вероисповедание, эти три религии требуют, чтобы оба родителя принадлежали к вере — в противном случае ребёнок может попрощаться с принадлежностью к группе навсегда.
В Египте плоский рельеф. Население здесь перемешивается равномерно, что позволяет ренормализацию (то есть позволяет асимметричным правилам работать) — в прошлой части мы уже говорили о том, что чтобы кошерная пища доминировала, евреи должны более-менее равномерно расселиться по стране. Но в гористых регионах вроде Ливана, Галилеи и Северной Сирии, христиане и мусульмане несуннитских конфессий остались на своей замкнутой территории. Христиане не жили рядом с мусульманами и не вступали с ними в брак.
У египетских коптов была ещё одна проблема: необратимость перехода в ислам. Многие копты перешли в ислам из практических соображений — когда это была чисто административная процедура, нужная, чтобы получить хорошую должность или решить проблему, связанную с исламским правом. Верить в Аллаха при этом было необязательно, потому что ислам нигде прямо не конфликтует с православным христианством. Мало-помалу христианские и иудейские семьи, поначалу обратившиеся в ислам так же условно, как испанские марраны в христианство, превращались в настоящих мусульман. Через пару поколений потомки забывали об уловках своих предков.
То есть ислам просто взял христианство упрямством — сами христиане в своё время победили точно так же. Когда-то, задолго до ислама, первые римские христиане преуспели в значительной мере благодаря… своей слепой нетерпимости, своему безусловному, агрессивному и демонстративному упрямству. Римские язычники поначалу их терпели — боги на территории империи были общие. Но их удивляло, что назареи не желают обмениваться богами и не хотят пристроить этого парня Иисуса в римский пантеон, а себе в обмен взять других богов. Брезгуют, что ли, нашими богами? Христиане же относились к римскому язычеству нетерпимо. «Гонения» на христиан вызваны в основном их собственным отношением к местным богам, а не наоборот, но наша история написана с христианской, а не с греко-римской точки зрения.
Мы мало знаем о римском язычестве эпохи становления христианства, так как в этом дискурсе доминирует агиография: известна, например, история святой мученицы Екатерины, которая обращала своих тюремщиков, пока её не обезглавили, но… её могло вовсе не быть на свете. Есть множество легенд о христианских святых и мучениках, но почти ничего о противоположной стороне, никаких героев-язычников. Известен только языческий эпизод времён правления Юлиана Отступника и наследие греко-сирийских язычников из его окружения, скажем, Либания Антиохийского. Попытка Юлиана вернуть античное язычество оказалась тщетной: это было как пытаться удержать под водой воздушный шар. Дело не в том, что язычники были большинством, как считают историки, дело в том, что христиане не подавались ни на йоту. При этом у христиан были великие умы вроде Григория Богослова и Василия Кесарийского, но никого, сравнимого с превосходным оратором Либанием — даже близко. (Я вообще предполагаю, что чем яснее ум, тем более он склонен к язычеству и тем выше его способность распознавать и осмысливать тонкости и неоднозначные моменты. Чисто монотеистические религии вроде протестантизма, салафизма или атеистического фундаментализма подходят буквалистам и посредственным умам, неспособным воспринять тонкости).
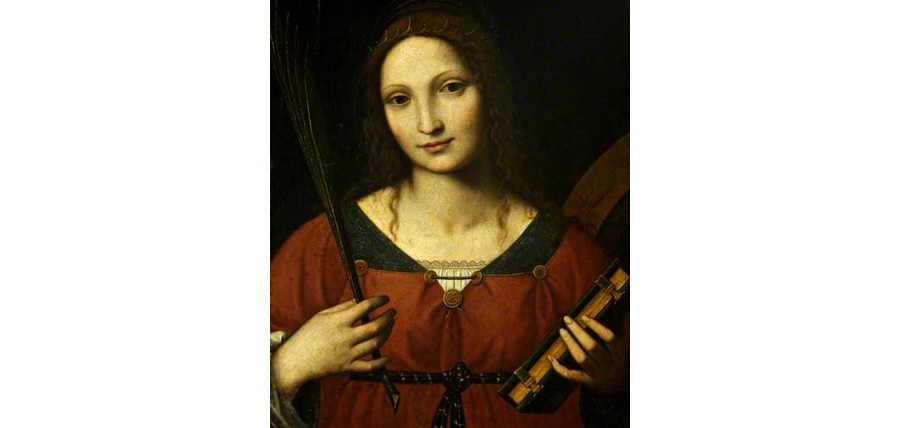
Великомученица Екатерина Александрийская
Строго говоря, мы можем наблюдать в истории средиземноморских «религий» (или, если быть точным, ритуальных, поведенческих и мировоззренческих систем) постепенный сдвиг, навязанный нетерпимой частью популяции и постепенно превращающий их в то, что мы привыкли считать религией. Иудаизм почти проиграл, потому что слишком привязан к своей трайбалистской базе, но христианство когда-то владычествовало — и по тем же самым причинам владычествовал ислам. Ислам? Исламов было множество, и последняя версия довольно сильно отличается от исходных. Ислам как таковой в конце концов захватили (в его суннитской версии) пуристы — просто потому, что они были нетерпимее, чем все остальные: ваххабиты, основатели Саудовской Аравии, разрушали святилища и установили предельно строгий режим, которому теперь подражает ИГИЛ (Исламское государство Ирака и Сирии — Леванта). В каждом следующем издании ислам подчинялся самой нетерпимой из своих ветвей.
Принуждая других к добродетели
Мысль об односторонней трансформации поможет нам развеять ещё несколько заблуждений. Почему запрещают книги? Совершенно точно не за то, что они оскорбляют обывателя — обыватели в основном пассивны, им всё равно или достаточно всё равно, чтобы не требовать запрета. Судя по опыту, чтобы запретить книгу или внести человека в чёрный список, нужно всего несколько (деятельных) активистов. Великий философ и логик Бертран Рассел потерял место в Нью-Йоркском университете из-за письма разъярённой — и упрямой — матери, которая не желала, чтобы её дочь находилась в одном помещении с субъектом, известным своим порочным образом жизни и возмутительными идеями.
То же самое касается и прочих запретов — в том числе американского сухого закона, которому мы обязаны множеством увлекательных историй про мафию.
Сойдёмся на том, что моральные ценности общества формирует не эволюция консенсуса. Их навязывает самое нетерпимое меньшинство — именно благодаря своей нетерпимости. То же касается и гражданских прав.
Теперь пример того, как механизмы действия религии и моральных норм подчиняются тем же самым процессам ренормализации, что и предпочтения в еде — и того, как меньшинство навязывает мораль большинству. Выше мы уже говорили об асимметрии между соблюдением и нарушением закона: законопослушный человек всегда поступает как положено, но преступник или просто менее принципиальный человек не всегда нарушает правила. Халяль мы тоже обсуждали. Совместим одно с другим. В классическом арабском у термина «халяль» есть противоположность — «харам». Нарушение моральных или юридических норм — любых норм — это харам. Этот запрет управляет всеми остальным поступками человеческого существа, от соблазнения жены соседа и дачи денег в рост до убийства своего квартирного хозяина ради удовольствия. Харам и халяль противоположны друг другу.
Отсюда ясно, что после того как моральная норма установлена, достаточно небольшого непримиримого меньшинства, равномерно распределённого в географическом смысле, чтобы навязать эту норму обществу. Грустнее всего здесь то, что, как мы увидим дальше, человек, наблюдающий людей как среднее арифметическое, может посчитать, что они сами собой становятся моральнее, лучше, мягче и чаще чистят зубы, но на деле это относится только к небольшой части человечества.
Парадокс Поппера
Пока я это пишу, общество спорит о том, не нарушат ли свободы просвещённого Запада те крайние меры, которые требуются для борьбы с салафитскими фундаменталистами.
Ведь ясно, что демократия — которая по определению держится на воле большинства — может позволить себе терпеть существование врагов? Это классический вопрос: «Нужно ли ограничить свободу слова для тех партий, которые выступают против свободы слова?». Сделаем следующий шаг. «Должно ли толерантное общество быть толерантно к нетолерантности?»
Это как раз то противоречие, которое Курт Гёдель (не имевший равных в логике и последовательности) обнаружил в американской конституции, когда сдавал экзамен, необходимый для натурализации. По легенде, он принялся спорить с судьёй, и спасать его пришлось Эйнштейну, который при этом присутствовал.
Я уже писал, как люди, у которых не всё безупречно с логикой, спрашивали меня, не хочу ли я «скептически отнестись к скептицизму»; когда меня спрашивали, «можно ли сфальсифицировать фальсификацию», я вторил Попперу.
На эти вопросы можно ответить, прибегнув к правилу меньшинства. Да, нетерпимое меньшинство может захватить и уничтожить демократию. Больше того, ясно, что оно рано или поздно уничтожит наш мир.
Так что с некоторыми нетолерантными меньшинствами нужно обращаться очень нетерпимо. Нельзя имея дело с нетерпимым салафизмом (который отрицает право других людей исповедовать иную религию), пользоваться «американскими ценностями» или «западными принципами». Запад сейчас совершает самоубийство.
Непокорный рынок
Теперь поговорим о рынках. Можно сказать, что они тоже не сумма составных частей — вместо этого цена отражает действия самого мотивированного покупателя и самого мотивированного продавца. Да, выигрывает самый упёртый. Это в основном понимают только трейдеры: цена может упасть на десять процентов из-за единственного продавца. Упрямый продавец — вот всё что требуется. В реакции рынков исходный стимул умножается многократно. На рынках сейчас около тридцати триллионов долларов, но единственное движение — всего на пятьдесят миллиардов, меньше двух десятых процента от общего веса — привело в 2008 году к падению на 10% и потере примерно трёх триллионов. Продавал парижский Bank Société Générale — там обнаружили тайную покупку, самовольно сделанную трейдером, и включили обратный ход. Почему рынок отреагировал настолько бурно? Потому что это была упрямая, категорическая попытка продать — и продавец не собирался менять свое намерение. Вот мой персональный девиз:
Рынок — это огромный кинотеатр с очень маленькой дверью.
И лучший способ вычислить ушлого парня (как выразился бы финансовый журналист) — это искать того, кто смотрит на дверь, а не на экран. В кинотеатрах случается убийственная давка — допустим, кто-нибудь крикнет «пожар»; люди захотят наружу и не захотят оставаться внутри, и это та категоричность, которую мы наблюдали, допустим, в примере с кошерной едой.
Наука работает похожим образом. Мы ещё поговорим о том, как правило меньшинства рифмуется с подходом Карла Поппера к науке. Но сейчас интереснее Фейнман. У великого Ричарда Фейнмана, главного шутника и нонконформиста среди учёных своего времени, есть сборник анекдотов под названием «Какая вам разница, что думают другие люди?» (What do you care what other people think?) Как понятно из названия, основная идея Фейнмана в том, что наука по сути своей означает презрение к устоявшейся норме и основана на той же асимметрии, что и популярность кошерной еды. Каким образом? Наука — это не сумма мнений всех учёных; как и в случае с рынками, процесс здесь очень односторонний. Если что-то опровергнуто, то оно ложно (не будем сейчас об экономике и политологии — это не наука, а самоупоённый балаган). Если бы наука опиралась на консенсус, мы бы до сих пор жили в Средневековье, а Эйнштейн закончил бы, как начал — в патентном бюро, клерком с бесплодными хобби.

Ричард Фейнман
***
Александр сказал, что лучше иметь армию овец во главе со львом, чем армию львов под водительством овцы. Александр (или тот, кто придумал этот апокриф) понимал ценность активного, нетерпимого и яростного меньшинства. Ганнибал полтора десятилетия терроризировал Рим, имея горстку наёмников — он выиграл двадцать две битвы, и в каждой из них уступал врагу в числе. Его вдохновляла версия этой максимы. В битве при Каннах он так ответил Гиско, заметившему, что римлян больше: «Да, их множество, и среди них ни одного Гиско».
Unus sed leo: один, но лев
Упрямая смелость окупается не только в военном деле. Рост общества, как экономический, так и моральный — плод усилий небольшого числа людей. В завершение скажем, что важнее всего — ставить на кон собственную шкуру. Общество трансформируют не консенсус, голосование, большинство, комитеты, совещания, академические конференции и соцопросы; чтобы сдвинуть его с места, достаточно нескольких человек. Всё, что для этого требуется — асимметрия. А асимметрия есть во всём.
Оригинал материала в блоге Нассима Талеба на сайте medium.com




