Больная тема
Лев Пирогов о Василии Макаровиче Шукшине
русской литературе есть три очень близко стоящих писателя. Этак «слегка соприкоснувшись рукавами». Хорошее выражение. Вот Цветаева — человек плохой, а поэт хороший. Бывает. Рукавами — вроде бы ерунда, случайность, ничего такого, подумаешь. И в то же время — ого. «Удушливой волной»… Хорошее выражение, кто понимает.
Так вот, три писателя. Гоголь, Шукшин и Чехов. Или, вернее, Гоголь, Чехов, Шукшин, конечно. Гоголь прожил 43 года, Чехов — 44, Шукшин — 45. Будто бы по очереди сшибали планку, набавляя по сантиметрику.
Все трое писали юмористические рассказы. Их поэтому легко понять, полюбить. Человек, когда смеётся, лучше становится. Потому что забывается, перестаёт «изображать из себя», перестаёт быть умным — или каким он там стремится быть. Ослабевает его защита. И срабатывает правило, как у дзен-буддистов, — правило пустого сосуда. Чтобы в сосуд что-то влить, надо из него сперва что-то вылить. Иначе новое по стенкам стечёт, не поместится.
Был такой жанр в нашем кино — лирическая комедия. Это когда вроде сел посмеяться — и поплакал. И задумался о жизни. И таким мудрым, таким задумчивым стал — жуть! Будто что-то очень важное про жизнь понял. Вот каждый из них, из этих троих писателей, был такой лирической комедией. Они не грузили. Не претендовали. Так, прогуляться вышли, лёгкий жанр… А всё-таки.
Ещё их объединяет любовь к «маленькому человеку». Какая-то совершенно особая привязанность к нему. Вот, кстати, почему Булгаков не встаёт в этот ряд, хоть тоже, как они, умел писать смешно, а славу (тоже, как они) снискал не этим? У Булгакова маленький человек — Шариков. Мучитель, палач, скотина. Булгаков чувствовал себя настрадавшимся от восстания маленьких людей — ещё бы ему их жалеть. Из булгаковской шинели вылезли Татьяна Толстая и Людмила Улицкая — интеллигентский извод рекламы мази от морщин и йогурта: «И пусть весь мир подождёт, ведь ты этого достойна». А Гоголь, Чехов и Шукшин даже о Шарикове исхитрились бы написать так, что он вызывал бы наше понимание и сочувствие, не только пока собакой был. Они как бы это… любили людей.
Гоголевские сатирические персонажи не вызывают отвращения. Они вызывают жалость. Тот сорт жалости, что сродни любви. Ни старосветские помещики, ни Иван Иванович с Иваном Никифоровичем не предназначены для битья. А разве не жаль Хлестакова, голодного, испуганного, чуточку, на денёк воспрявшего в лучах не ему предназначенного обожания и любви, а что его ждёт впереди? Раскисший просёлок, серое папашино поместье, клопы — и никогда он больше не увидит горячо любимого им Петербурга… А Добчинский и Бобчинский, которым хотелось, чтоб о них сказали царю, чтобы хоть какую-то справку от бытия получить: я есть, я существую!.. Ибо слишком мало в окружающей их жизни тому подтверждений, а душа-то болит… Это, кстати, очень шукшинское. Даже Городничего жалко: когда он кричит в зал «Над кем смеётесь? Над собой смеётесь!..» — и зал не слышит его, ухахатывается…
То же у Чехова: его рассказы никогда до донышка не смешны. Всегда в них остаётся грустинка. Это оставляет возможность зацепиться за понимание персонажа, не оттолкнуть его от себя смехом. У Чехова жалко всех: и Попрыгунью, и уморенного ею мужа. И того, который про Крыжовник мечтал, и Гаева, который «глубокоуважаемый шкаф». А что, у вас не было такого шкафа? И такого крыжовника? Нет, ну что-то же у вас было… И каждый чеховский персонаж может будто бы сказать вам «ведь я брат ваш», как уродливый Акакий Акакиевич — молодым чиновникам, плевавшим в него жёваной бумагой для смеха.
То же и у Шукшина. Есть у него рассказ — «Хмырь». Типа курорт. Люди на экскурсию едут в автобусе. Хмырю весело. Пристаёт к девушке. Тупо, громко, на весь автобус. Девушка такая, с толстыми руками и туповатым лицом. Рада: её заметили, к ней пристают. «Хи-хи. Тонко чувствующий протагонист (персонаж, ассоциирующийся с автором) корчится от омерзения. Мало того, что пошлое веселье мешает ему тонко чувствовать, так он ещё вчера слышал, как Хмырь звонил домой жене (а говорит «нет жены»). Он встаёт, подходит к Хмырю и палит его. Хмырь пристыженно ретируется на своё место. Девушка вянет, пропадает. Доярка, поощренная бесплатной путевкой, что она видела в жизни кроме коровьих хвостов? Вот и пусть посмотрит в окно на виды. И помолчит.
Все молчат и смотрят в окно. С благодарностью и облегчением. И только старичок, который перед этим вместе с протагонистом морщился от убийственного хмыриного юмора, смотрит на него отчужденно:
И сразу возникает объём в душе — пустота какая-то же с ветерком. Хоть и дрянь люди — Хмырь с дояркой, но люди же. А мы, хоть и люди, но… И вспоминается чеховское: «Лучше быть жертвой, чем палачом» (в письме к брату писал он).

Про это вот, про такую выворотку, у Шукшина много. Вот, например муж с женой, оба толстые, довольные собой собираются в гости (рассказ «Петя»). Противные, лоснящиеся, скрипучие, как личинки. Сопят от важности, особенно он. Кладовщик или что… «Добился в жизни». Разговоры соответствующие хапужьи. А жена и так перед ним, и этак. Сюсюкает, хлопочет — гордится им. А он сопит, напитывается её обожанием, как автомобиль бензином. Противно! И вдруг в какой-то момент автора озаряет: «А ведь она любит его»… И всё. Финиш.
Сейчас для этого сняли бы какой-нибудь фильм о любви бомжей, или имбецилов, или сумасшедших, извращенцев, серийных убийц — в общем, расстарались бы для «разрыва шаблона». А Шукшин далеко не ходил, зачем. Вот они, люди. Слушают Трофимова и «Русский шансон», ездят в Турцию, «всё включено». Что уж экзотические бомжи — ты попробуй их полюбить.
Или вот рассказ «Билетик на повторный сеанс». Человек чувствует приближение смерти. И не смерти даже, а просто — жизнь заканчивается. Тяжко ему, грустно. Невозможно обидно. Как, это всё? Охота пожить… Он плохой человек, но не какой-то там изрядно плохой, негодяй, душегуб — отрицательная романтическая величина, а так, «маленький плохой». Дрянь, пакостник. Не достоин ни сострадания, ни сочувствия, ни интереса даже. Но чувства, которые он испытывает, оказываются вдруг настолько понятными, настолько «твоими», что оторопь берёт. Смотри-ка ты, все равны. У каждого человека душа.
Это существенно отличается от того, что делали «деревенщики» или русские писатели-гуманисты с «мыслью народной». Там важно было показать образованному читателю, что «человек из народа» тоже имеет право на жизнь, и для убедительности нужно было сделать его каким-то особенно мудрым, милым или страдающим. Нужно было дать читателю умилиться: «Ба, да они не просто такие же, как мы, они лучше!» Это приём сродни «любви бомжей»: тот же «разрыв шаблона». Ни у Гоголя, ни у Чехова, ни Шукшина вы таких платонов каратаевых не найдёте. Никто никого не лучше. Самоуничижение паче гордости, иначе говоря, умиление перед «особыми качествами» людей из народа — тоже разновидность сословной спеси.
Это славно, конечно, что «человек из народа» объясняет в конце романа «Анна Каренина» его главному герою, Константину Лёвину, в чём смысл жизни. Только что ж это получается? Лёвин (кстати, тоже протагонист) мучается, ищет, пребывает в творческом процессе, так сказать. От этого и наблюдать за ним интересно, он вызывает наше сопереживание и сочувствие (мы тоже — каждый что-нибудь ищет). А мужик стоит в поле этакой каменной скифской бабой, ничего не ищет, всё у него есть. Только спроси. Нажми на кнопку — получи результат. Не живой человек, а «волшебный дар» из сказки получается. Или «животное-помощник». Вспомогательная функция.
Писателям-«мыслителям» для донесения своих мыслей приходится прибегать к «понятным» упрощённым приёмам. Примеры и схемы, на которых объясняют устройство жизни, должны быть проще, однозначнее самой жизни. И заодно ярче, выпуклей. Эта яркость подкупает нас, мы увлекаемся ею и уже только её в искусстве и ищем — искусство заслоняет собою жизнь. Сколько мысли у Толстого! Сколько страсти у Достоевского! А у Гоголя, у Чехова что? Вроде есть и чувство, и мысль (не может же их не быть), но как-то уже не ахнешь — «сколько». Как-то будто поменьше, что ли…
Писателей-«мыслителей» чтить легко. Пересказывай их мысли — вот уже и понятно, что человек писал и хорошо, плохо ли. С писателями-«художниками» сложнее. «О чём эта книга?» — «О жизни…» Зачем такое искусство?
Ну, видимо, всё же зачем-то нужно. Человек же не только от головы живет. Всякие эмоции, интуиции, невысказанности тоже полезны для его организма. Тоже улучшают настроение и повышают производительность.
Это, конечно, тоже «схема» — делить писателей на «художников» и «мыслителей». (Толстой был художником — дай бог всякому, а Гоголь и Шукшин вовсю «думали о России».) И всё же я отчётливо вижу в русской прозе две линии, как их ни назови. Одна — Лермонтов, Толстой, Достоевский. Другая — Гоголь, Чехов, Шукшин.
укшина в этом ряду принять непросто. Всякие возражения начинают толпиться в голове. Почему он, а не другой достойный товарищ? И не жирно ли? Ведь его портрет даже в школьном кабинете литературы не висит…
Это и понятно. Шукшин-писатель у нас «недооценён», как ни смешно это звучит.
Попробую объяснить. Вот поклонники Владимира Семёновича Высоцкого говорят: ах он был непризнанным, власть его недооценивала, какое горе! А не поклонники над ними смеются: ну, привет. Известен на всю страну, главные роли в самом модном театре, в кино снимают, за границу выпускают гулять, с концертов мало-мало иметь давали — на «Мерседесе» по Москве катался! Пластинку на «Мелодии» выпустили ему… Какого ж вам ещё признания надо?
А речь-то не о том, что Высоцкий чего-то «недополучил». Когда говорят «недооценили», вовсе не имеют в виду «недодали», «недовыплатили». Имеется в виду нечто совсем другое и чуть ли не противоположное, просто человеческие мозги устроены так, что если готовых слов для выражения посетившей их мысли нет, мы можем «соскользнуть» на «близкие по смыслу», хоть и предназначенные для выражения совсем другой мысли. И, соответственно, выразить эту совсем другую мысль, но при этом думать, что сказал то, что хотел сказать. А что хотел-то, уже и не важно.
Так вот. Когда говорят, что кто-то что-то «недооценил», имеется в виду, что этот кто-то недооценил значение явления для себя. А значит, сам «недополучил», «недобрал» его, этого явления. Недовоспринял. Снял вершки. Не изменился должным образом под его влиянием. Таким образом, когда говорят, что Высоцкого недооценили, имеют в виду, что официальная культура могла бы вобрать в себя феномен популярности Высоцкого и как-то измениться под влиянием этого, а она предпочла оставить его за скобками.
Уж как бы она там изменилась, я не знаю. Может, радио «Русский шансон» на двадцать лет раньше возникло бы. А может, научились бы культивировать не только то, что годится для отчётности культурного чиновника перед партийным чиновником, но и то, что «людям нравится», и люди не отомстили бы своей официальной культуре и своему государству так безоглядно и так решительно, как это случилось на рубеже 80-90-х годов, когда — хоть задницу покажи, лишь бы не «проклятый совок». Заметим, что Высоцкий сам охотно эволюционировал от «юмора» и блатняка в сторону гражданского и патриотического звучания и популярности при том не терял, так что возможности были.
Когда я, например, говорю, что столичная литературная тусовка недооценила книжку Тихона Шевкунова «Несвятые святые», я вовсе не имею в виду, что ей нужно было вручить букеровскую премию. Но подумать и обсудить, на чём основан небывалый успех книжки про «хорошую жизнь», надо было. Поучиться у явления надо было. Тем более когда у вас с вашими неизменными историями из жизни стерв «книжный кризис».
Вернёмся к Шукшину. Он, конечно, всё «дополучил» — и славу, и известность, и прочее. Но. Дело в том, что литература у нас — дело интеллигентское, а ещё точнее сказать, мещанское, городское («мещанин» — значит «горожанин»). То есть кастовое. Ну вот как где-то на Востоке есть касты торговцев, воинов, собирателей слоновьего навоза и т.д. Кто-то занимается литературой, определяет, что в ней хорошо, плохо, серьёзно, несерьёзно. А кто-то — читает и пишет её. Эти рангом пониже. Как говорил Якобсон в ответ на предложение сделать Набокова завкафедрой славистики (в Гарварде, кажется), потому что он «крупный писатель»: «Слон тоже крупное животное, но мы же не предлагаем ему кафедру зоологии».
Хорошо, когда писатель или читатель сами из литературной касты. Если же нет… Тогда отношение к ним может быть любовным, умильным («ишь ты! надо же… утю-тю…»), но пропасть между тем, кто делает литературу, и тем, кто её «понимает», от этого нисколько не уменьшается. Это проблема.
Что-то не пускает Шукшина туда, в храм настоящей серьёзной литературы для белых людей. Куда допущены Платонов, Набоков, Трифонов, Газданов, Довлатов… Может быть, кинообраз (кепарик, кирзовые сапоги — для литературы это утю-тю, несерьёзно), волосы короткие, фу. Вообще Шукшин неприятен, чувствуется в нём что-то культурно чуждое. Что-то от русского шансона, от блатной истерики, от Егора Прокудина.

Какая-то неприятная взведённость на конфликт, колючесть. Какая-то болезненная готовность укусить. Паясничанье… Нежелание соблюдать поведенческие и культурные конвенции (то есть вести себя так, как принято в такой ситуации). Одним словом, неинтеллигентность. Бывает, что в представителях народа случается «природная интеллигентность», — это когда представитель спокойный, «благообразный», сидит никому и ничему не мешает, вырезает ложку, а спросишь его — изрекает всякое про пчёл, про смысл жизни. Про такого говорят: «Ему присуща настоящая природная внутренняя интеллигентность». У Шукшина внутренней интеллигентности не было. Он лез, приставал, настырничал. И чуть что, улыбочка эта неприятная, как волчий оскал.
Не знаю, было это в его характере или он по-актёрски где-то подсмотрел «красочку». Мне кажется, было в характере. Вот навскидку — из писательской записной книжки, где он делал наброски тем, мотивов, характеров для будущих рассказов:
И тут же неподалёку:
Вот она, эта «красочка». Когда человека раздражает вдруг то, что других не раздражает. Другие либо привыкли, либо приучились себя вести. А у этого резьба слабенькая — чуть что, и срыв. Ну позавидовал ты шубе, господи… Что ж сразу революция-то? Ты лучше попробуй пойди поработай — в банке, там, я не знаю, ну или хотя бы сперва в «Макдональдсе»… Старшим смены… Заработай и тоже шубу купи! И не будет раздражать тебя ничего. Тоже будешь уважаемым человеком. А вот так вот — напасть с кулаками, отнять, «взять и поделить»… Ну проходили же…
В книжке этнолога и историка культуры Джеймса Фрезера «Золотая ветвь» излагается такая схема возникновения культуры, в том числе художественной культуры. В некотором царстве (не помню, у каких-то там древнегреков) существовал ритуал перехода власти от старого самца (царя, жреца) к молодому самцу. В строго определённый день в году нужно было пойти в священную рощу и сломить с определённого дерева (оно называлось падуб) веточку омелы золотистой. И всё, власть твоя. Изящно, интеллигентно, культурно. Понятно, что старый самец в этот день с утра пораньше тоже будет в священной роще со своей любимой дубиной. И они с претендентом всё равно подерутся. Но!.. Подерутся за веточку, понимаете? За обладание хрупкой, изящной веточкой. Сломанные кости, сепсис, вой умирающего — всё это забудется, а веточка изящная… (Не могу, слёзы душат.) Веточка изящная будет символизировать власть.
«И так во всём».
А Шукшину (ну, или герою Шукшина, он же всё своё, как той веточке, перепоручал героям) как будто не нравилась такая «конвенция». И он всё время пытался сломать её. Выкрикнуть, что «король-то голый», начудить, людей взбаламутить, самому опозориться… В общем, по морде на ровном месте.
Безусловно, эта нервность связана с его «особым» местом в литературе — «выходца из деревни, самородка», своего рода «представителя от коренных народностей». Было в этом что-то убогое. «Вот дрессированная обезьянка, думает о России, страдает за русского человека душой, пишет книжки. Можно сфотографироваться у памятника, потом будет банкет».
И на банкете — прошу заметить! — мы не сразу начнём обсуждать свои дела (как у кого на кафедре, как в журнале), а сперва поговорим о творчестве Шукшина. Не ради приличий, от всей души, помилуйте!.. И потом напишем о нём свои правильные скучные статьи. Которые, как пышные венки над могилой, лягут над его творчеством — не пролезешь, не разглядишь.
Это, так скажем, «линия реакции интеллигентного человека, не замечающего, как кто-то пролил соус на скатерть».
Есть и другая «линия». Назовём её — ну, хотя бы «линия размазывания соплей по груди».
Это когда ни в коем случае не скажут отчуждённо: «Шукшин» — всё только «Василий Макарыч» да «Василий Макарыч». Ну, или ещё лучше: «Вася». Тут тоже принято говорить и писать о Шукшине как о мёртвом, то есть только хорошее. Любопытно, что при всей популярности Шукшина о нём до сих пор не написано достаточно подробной и беспристрастной биографической книги. Только «пристрастные».
Между тем на страницы бульварных изданий просачиваются какие-то смутные (даже и там по возможности заретушированные) стенания бывших жён: то ли бил, то ли пил, то ли изменял… Кстати, сколько их было-то, жён-то? То ли три, то ли три с половиной… Многовато. И вообще, вот человек приехал из деревни и поступил во ВГИК. Это нормально, верю, бывает. Но в Толстые Журналы-то, в Литературу-то он как попал? «Талант?» Не смешите. Вам про Толстые Журналы, а вы — «талант». История эта покрыта мраком и, боюсь, уже навсегда.
Может, тут как раз в том и дело, что Шукшин не из интеллигентной среды. Люди, составлявшие его окружение, умеют правильно молчать. Русский народ — известный ханжа. Вот, скажем, если взять Марину Ивановну Цветаеву, то о ней сладострастно выложили всё до последней ниточки в простыне. Причём сами же обожалки цветаевские, выросшие в цветаеведок, и собирали кропотливо эти воспоминания. Или взять Анну Андреевну Ахматову. Может, и хорошо, что о Шукшине нет такой книги, какую написала об Ахматовой её поклонница Лидия Чуковская. А то прочтёшь — и стошнит. «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда…» Вот именно. А русский народ стыдлив.

Кстати, о жёнах. В тех же записных книжках есть и такая запись:
Оно и понятно. Баба микроскоп отбирает, на балалайке вдоволь поиграть не даёт. И вообще, у неё душа не болит:
— Опять! Навалилась.
— О!.. Господи!.. Пузырь: туда же, куда и люди, — издевалась жена Максима, Люда, неласковая, рабочая женщина: она не знала, что такое тоска
(Рассказ «Верую!»)
Тут главное — «рабочая». Отчего-то сразу вспомнилась мне повесть американского фантаста Джона Уиндема «Хризалиды». Было в американской фантастике 30-50-х годов такое «либеральное направление», заложившее в западном массовом сознании основы толерантности и мультикультурализма: Брэдбери, Саймак, Уиндем… Там, значит, дело происходит в постапокалиптическом мире: выжившие люди живут натуральным хозяйством, каждый день проводят в тяжком труде и суеверно борются с мутациями, случающимися после пережитой Катастрофы. Как рождается телёнок о двух головах, они его сразу — хрясь…
Но главный герой (ребёнок, разумеется, ведь дети так охотно открываются всему новому, если их каждый день не драть) сводит дружбу с людьми-мутантами, и оказывается, что они гораздо более приятные люди, чем, например, его, ребёнкины, родители. Гибкие, незашоренные, склонные к прогрессу и приятной беседе, и вообще, будущее за ними. Ну, вы понимаете.
Так вот, я, когда читал, заметил, что герой этот самый сельскохозяйственных работ не любит и как может от них отлынивает. (Хотя жрёт как все.) Именно благодаря тому, что он тайком от остальных полёживает в тени, с ним случается всё самое интересное. А не был бы бездельником — так и умер бы в говнище. Самое интересное, что Уиндем не хотел писать, что условием гуманитарного прогресса является тунеядство, а вот написалось же… Такое часто (и даже обычно) случается с художником: он видит больше, чем понимает умом. И, если он ещё умеет и передать то, что видит, получается, что передаёт больше, чем хочет.
Так и Шукшин: ну, написал бы, тупая баба, колода, ан нет, вытанцевалась «рабочая женщина». Понятно, почему душа не болит. На работе наломаешься…
Хм. А Максим тогда, выходит, мечтатель? Бездельник, вроде этого… хризалида? И весь, так сказать, корпус шукшинских персонажей, получивших тошнотное наименование «чудиков», — те, которым не живётся как всем, у которых «душа болит», и водка эту беду не лечит, а становится легче, лишь когда отколешь какое-нибудь коленце, — это случайно не мутанты ли? Не мутанты-извращенцы русского богоспасаемого народа, провозвестники будущей либерально-толерантно-мультикультурной бури?..
Ах, как нехорошо…
Но Шукшин как почувствовал: ненастоящая тоска получается, раз бездельник. И для подозрительных уточнил: «Он был сорокалетний лёгкий мужик, злой и порывистый, никак не мог измотать себя на работе, хотя работал много».
В самом деле, у простого человека не тоска от безделья случается, как у кастрированных котов и городских романтиков, а наоборот: безделье начинается от тоски. У Алексея Феофилактовича Писемского был очерк «Питерщик». Речь там о деревенских, которых сызмальства отдают в город ради обучения ремеслу. А потом приходится возвращаться. Возвратившись, те сперва задирают нос, а потом впадают в непонятную односельчанам тоску. Вряд ли это тоска конкретно о жизни в городе, скорее — о чём-то недостижимом. Так, вообще… О промелькнувшем, поманившем, утерянном. О мечте. Бедолаги начинают «задумываться», всё у них валится из рук, нищета, смерть.
Крестьянская жизнь должна опираться на монотонность. Это там от культа плодородия повелось. Сезонные циклы, ходьба по кругу «путём зерна», даже и смерти нет. Модель мира у них циклическая: мир ни к чему особо не движется и не изменяется — так чтобы сильно. В окружающем крестьянина мире мало есть чему меняться. Трава — звенит. Облака — плывут. Довольно давно уже. И ещё долго так будет.
Не то в городе. Жизнь летит. Не успеешь толком разобраться в технико-тактических характеристиках зенитно-ракетного комплекса «Бук» (это важно, вся Москва обсуждает), как они уже — бах! Хамон запретили. Как жить? Всё на нервах… Модель времени модерна — стрела, направленная в цель. Долететь, успеть… Модель времени постмодерна — то же самое, только тут стрела кусает себя за хвост. Целишься, допустим, в светлое завтра, а попадаешь себе в жопу, и так каждый день. Но это не важно. Главное, есть куда целиться, к чему стремиться.
В большом городе есть ощущение отсутствия границ. Ну, или они где-то там, далеко. И тебе есть куда двигаться. Даже если ты ничего не делаешь, нигде не бываешь, никак не используешь «возможностей большого города», всё равно психологически ощущаешь, что тебе многое доступно. Пространство твоих потенциальных возможностей больше, а от этого и сам ты как-то больше становишься. (Снова вспоминается Хлестаков.)
Главная особенность шукшинских персонажей, стремление выломиться за границы допустимого, связана не со стремлением к городу (скучно молодым девчонкам хвосты телячьи крутить на ферме, а в городе магазинов одних…), а со стремлением к модерну. К большому делу планетарного, космического, вселенского масштаба, которое наполнило бы жизнь смыслом и уняло бы тоску. Извести остро заточенной иглой микробов, чтобы дети никогда не болели, построить вечный двигатель, написать великую картину, придумать справедливое государственное устройство…
И очень показателен в этом смысле рассказ «Верую!», о котором мы начали говорить. Максим работает много, но всё это работа такая… Чтобы поесть. Поел и умер. Ну, вырастил детей. И они своих. Ну и?.. А хотелось — он сам толком не знал, чего хотелось, но предположительно — результата. Упора. Дна твёрдого. Причины. Пределы всей этой сансары-нирваны хотелось увидеть. (Как мудрецу со старинной гравюры, что пробил головой все семь сводов небесных и охренел от вида взаправдашнего Настоящего Мира.)

Максим идёт к священнику. Не в храм, конечно: у соседа поп гостит, родственник жены, водку жрёт. У них происходит диковатый разговор — именно об этом, о поиске окончательного смысла, который всё равно ведь должен быть дан человеку в ощущениях, другой смысл его не проймёт, а следовательно, «окончательный смысл» субъективен, и Церковь всем нуждающимся его даёт на раз-два-три, недаром поп говорит: «Ты правильно понял, у верующих душа не болит». Но поп неожиданно оказывается объективистом. Верует «в космос и невесомость, ибо это объективно». «В авиацию, механизацию сельского хозяйства и научную революцию-у!»
Поп-модернист.
Бога ему мало, потому что до Бога, грубо говоря, человек додумался, а значит, Бог — это не предел, не «упор». Веруй, говорит, в Жизнь. Жизнь — она непонятно что и зачем. Что больше человека, вот в то и веруй.
«Ты какой-то… интересный поп. Разве такие попы бывают?» — спрашивает Максим.
Может, после разговора с «неинтересным» попом душа его бы и утешилась чем-нибудь доступным и маленьким. Как у Кости Валикова, героя рассказа «Алёша Бесконвойный»:
Или как Моня Квасов, герой рассказа «Упорный». Вечного двигателя у него не вышло, прорыв к модерну не получился. Зато:
Возвращение к циклической модели, отмена модерна — и просветление. Как сделать человеку хорошо? Сделать ему плохо, а потом вернуть как было.
А «прорыв к модерну» интересного попа не работает. Душа не успокаивается, не становится сильной, а идёт в разнос. Поп с Максимом надираются, рвут на себе рубахи, скрипят зубами и пускаются в пляс: «Эх, верую, верую!» Три-татушки, три-та-та. «На столе дребезжали тарелки и стаканы».
В общем, пошлость и «пустота-а-а», как некий Ипполит в одном известном кино говорил.
О том, что шукшинский чудик пытается раздвинуть границы своего мира, писали все. И выходило, что это, мол, хорошо. Они ж на то и границы, чтобы их раздвигать, правильно?
Интересный вывих сознания. Границы-то — они для другого. Они — чтобы их крепить. Чем надёжнее границы, тем лучше. В этом их смысл.
Но чтобы это понять, не вредно попытаться «раздвинуть».
ак вот, насчёт жён-то.
Согласно неофициальным биографам, именно первой жене Шукшин обязан своим собственным «прорывом к модерну», оформившимся, натурально, как бегство в город. Выглядело это примерно так: девушка красивая. Влюбился. А влюбился — так женись! Дети пойдут… Впряжёшься — поедешь. Дело известное. Обычное дело.
Он и попытался жениться. А была она, что называется, «из крепкой семьи». Все хозяйственные, практичные. «Рабочие», как та Люда. И понял: нет, не могу. Душа болит. Сбежал в город…
А не сбежал бы — стал бы непутёвым зятем при крепком хозяйстве, «чудиком». Писал бы — вместо рассказов — по ночам в тетрадку трактат, как организовать жизнь в государстве по подобию муравьёв, или сочинял бы в сараюшке из велосипедного колеса вечный двигатель. Люди под хорошее настроение жалели бы его. Но он удрал — и выжил, приспособил к делу своё чудачество.
И образовался… не помню, как это в психологии называется. В общем, образовался сценарий: «Что нужно сделать, чтоб себя подстегнуть». Шукшину для этого нужно было жениться на мещанках. Вторая его жена была такой, судя по раздаваемым сейчас интервью — мелочным, ревнивым и мстительным. Третья — ну тут всё понятно, за Барри Алибасова вышла. А ему это и нужно было. «В первых рядах страшной армии — женщина».
Ну а не было бы их, баб, — и Шукшина никакого, получается, не было бы.
Однако смешно вышло. Я думал, это у меня будет где-то в самом начале — про баб. А сейчас гляжу: получилось в самом конце. Всё, текст закончился, ибо сколько можно уже. Ни о проблеме «положительного героя» и отношении к ней Шукшина, ни о пресловутом рассказе «Срезал» и отношении Шукшина к проблеме народничества написать не успел.
Может, когда в другой раз.
Есть у карточных гадалок такой термин — «на чём сердце успокоится». Раскладываешь карты, раскладываешь, и как оно там дальше выйдет — сама не знаешь. А какая карта последней ляжет, на чём сердце успокоится, то и будет главным смыслом гадания. «Третья фигура, замри», так сказать.
Или, как Господь предупреждал, «в чём застану тебя, в том и возьму».
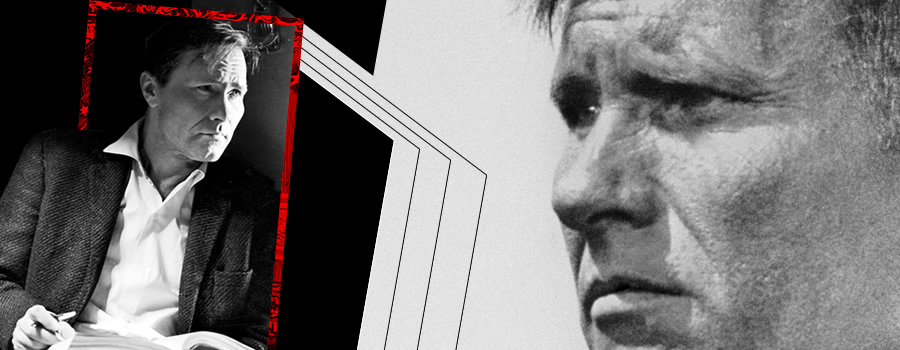
Забавно.
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!








