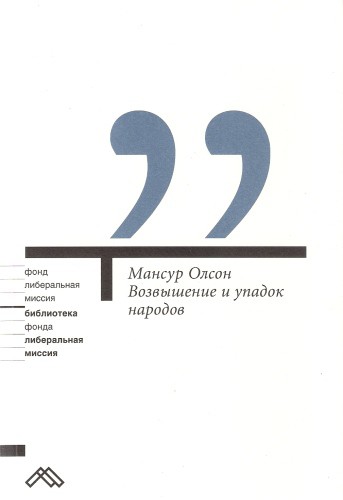Министерство образования массово сокращает бюджетные места на философских факультетах. На всю страну остается около 400 мест. Желающие получить знания о Сократе и Канте теперь будут платить. В Москве — до 300 тысяч в год.
На первый взгляд, решение кажется вполне рациональным. Диплом философского факультета — один из самых невостребованных. Устроиться на работу «по профессии» практически невозможно. Университетские ставки заняты Мафусаилами made in USSR. В техникумах ситуация примерно такая же, а переход к другой специальности занимает массу времени: компетенция в тонкостях спора между Лейбницем и Декартом слишком далеко отстоит от 1С и Excel — главных орудий труда нынешнего пролетариата. Сократить места — уменьшить безработицу среди молодежи. Выпускникам нужны перспективные профессии и если философия не входит в их число, то лучше от нее заранее избавиться.
С другой стороны, разве устойчивое падения спроса на метафизику не является признаком её общей ненужности?
Начнем с того, что философия противостоит вере. Не какой-нибудь конкретной, а в принципе. Авторитет последней держится на откровении. Верующие слушают священника не потому, что он «святой», а потому, что видят за ним Сверхъестественное. С их точки зрения, он говорит не от себя, а от Другого, которые, как им кажется, правит миром.
Знаменитый католический догмат о безгрешности папы во время выступления ex cathedra происходит именно отсюда. В качестве параллели можно вспомнить русское невнимание к духовному образованию пастыря. Где и чему учился батюшка — никого не волнует. Хоть магистр богословия, хоть шесть классов школы. Куда важнее правильность посвящения в сан. Если епископ возложил руки и произнес нужные молитвы, то благодать снизошла, и каким бы он потом ни был, его уста — уста Бога. Хочешь узнать истину? Спроси попа и Бог тебе ответит.
О какой истине идет речь? О самой главной. Об ответе на вопрос «Зачем я?» Люди задаются им крайне редко, но важность его настолько велика, что если вовремя не получить ответ, начинаются проблемы. Вплоть до сумасшествия. Достаточно вспомнить биографические выверты начала девяностых, когда на собрания иеговистов ходили семьями, уровень самоубийств зашкаливал, а в монастырях толпились вчерашние физики-атомщики.
Философы призывают опереться на свой разум, ибо уверены: за священником никто не стоит. Только тени, порожденные человеческими страхами. Поэтому вместо условной Библии они предлагают людям собственные теории. Философ похож на священника, который вдруг понял, что его слова — это его слова и никакого особого смысла в них нет. А смысл нужен. Без ответа на «зачем я?» человек погружается в тоскливую животность. Как у главного героя в романе Альбера Камю «Посторонний». Поел-поспал-искупался-занялся любовью-заснул. Пока никто не трогает — терпеть можно, но как только появляются серьезные проблемы, голова сама лезет в петлю.
Священник, говоря об истине, упирает на ее божественное происхождение, в то время как философ демонстрирует убедительность и правдоподобность выводов. Страх и трепет против логической непротиворечивости. В чем разница? В адекватности. Решения, принимаемые с оглядкой на законы аристотелевской логики, чаще всего оказываются успешнее решений, основанных на молитвенном наитии.
Наличие философии в системе высшего образования означает ее светскость. Присутствие философов в СМИ и живое внимание к ним со стороны читателей — верный признак того, что религия отошла на второй план. Не в смысле «церкви взорваны, попы расстреляны, монахи отправлены в лагеря», а в смысле «не нашел аргументов и перешел на другие позиции».
Если мы посмотрим на авторов, чьи тексты занимает умы наших сограждан, то увидим, что среди них нет философов. Львиная доля внимания приходится на журналистов и священников. Первые популярны в столице и пяти-шести крупных городов, а вторые — во внутренней России от Владивостока до Мурманска.
Чем журналист отличается от философа? Что есть в текстах Гегеля и чего нет в репликах Алексея Венедиктова?
Прежде всего, ума. Хлеб журналиста — организация скандала. Найти «больную тему» и пройтись по ней так хлестко, чтобы публика забыла о своих заботах и полностью переключилась на ее обсуждение. Поскольку настроения общественности меняются ежедневно, успех зависит от способности вовремя заметить новейший поворот чувствительности. Журналист угадывает ожидания и дразнит едва наметившееся раздражение. Мгновенной реакции и развитой «женской» интуиции ему вполне достаточно. Даже много будет.
Как следствие, у него нет времени на раздумья. Выводы делаются еще до того, как новостное сообщение прочитано до конца. Умение вникнуть в ситуацию, умение плодотворно сомневаться в понятом, умение соотносить увиденное с гуманитарной и естественнонаучной теорией и само знакомство с оной ему чужды. Он никогда не согласится потратить год-два-три на чтение толстых книг и собеседование с академическими мужами ради того, чтобы получить ответы на «проклятые вопросы». Журналист знает истину «наивно». На манер костромской доярки. «Черное\Белое». «Европа\Азия». «Правительство\народ». Какие вопросы? Никаких вопросов.
Три идеи, взятые на прокат у популярных, обязательно современных, писателей, эхо школьного курса по литературе, рудиментарные отрывки из учебника по истории для
Какой отсюда следует вывод? Журналисты слабее философов, а, значит, не могут конкурировать со священниками. В момент «или-или», когда Патриархия наконец-то выведет в своих академиях жизнеспособную генерацию богословов и обратит их таланты против Просвещения, они в одно мгновение перебегут на сторону Церкви. А за ними и «читающая публика». Если кто и останется на стороне разума, то скорей по инерции, чем по убеждению. Да и то ненадолго. В первом же серьезном споре их разобьют в пух и прах. Журналистам, особенно той размыто-либеральной направленности, которая пользуется у россиян спросом, нечего сказать в противовес. Рассуждать о коррупции на основании случайно подслушанных разговоров — это, извините, одно, а объяснять, почему аргументы Ансельма Кентерберийского не доказывают существование Бога — совсем-совсем другое.
Медленная смерть философии в России означает постепенный возврат на мировоззренческие позиции времен царя Михаила Федоровича. С той лишь разницей, что никаких «адамантов благочестия» уже не будет. Скорей, корыстное умопомрачение и маскировочная стилизация под Пакистан.