Константин Крылов безвозмездно передал «Спутнику и Погрому» весь архив легендарного журнала «Вопросы Национализма». Благодарим Константина Анатольевича за прекрасный подарок и начинаем публикацию с большого материала — 2011 год, круглый стол, обсуждают национальную революцию. «Национальная революция» — хороший, честный термин, который в последнее время несколько подзабылся. Ну а мы напомним.

Константин Крылов, главный редактор журнала «Вопросы национализма»: Я позволю себе потеоретизировать по поводу отношений нации и революции. То есть тема моего выступления — нация и революция, как связано одно и другое. По большому счету национализм является определенным этапом развития народа. Народ становится нацией в совершенно определенный момент, когда народ начинает претендовать на те права и обязанности, которые до сих пор всегда ассоциировались только с аристократией. Разумеется, народ не может претендовать на все права господ. Есть права, которые по своей природе эксклюзивны — например, право владеть крупной собственностью или рабами. Но такие права отрицаются за всеми вообще. Именно эта сторона дела обычно и замечается в первую очередь: революция — это отрицание некоторых аристократических прав, сопровождаемое обычно взрывом ненависти к аристократам. Но все остальные права присваиваются народом, который таким образом становится нацией. Условно говоря, нация — это проект всеобщей аристократии, когда все являются господами.
То, что я сейчас говорю, проверяется очень легко. Позволю себе сослаться на присутствующего здесь Павла Святенкова, который в свое время провел весьма интересное исследование. А именно: как в национальном государстве именуются полноправные граждане? Слово для наименования полноправного гражданина всегда соответствует тому слову, которым раньше обозначали очень высокого уровня и высокого ранга господина. Я, собственно, уже произнес это слово — «господин». Например, в русском языке это очень четко маркировано — «господа». Именно это слово, одновременно обозначающее высший слой общества (точнее, тот слой, который «снизу» выглядит как высший), становится официальным обращением ко всем.
Егор Холмогоров: Если говорить о том, чтобы в русском языке внедрять соответствующее обращение, то надо ориентироваться действительно на самый высший титул, называть не господин, а государь.
К.К.: Это реализовано во французском языке. Я попрошу Павла Святенкова рассказать, что означает слово «месье».
Павел Святенков: Во французском языке «месье» — это изначально обращение к брату короля, соответственно «мадам» — это обращение к принцессе. То есть когда писали обычно в эпоху Людовика XIV «месье», то имелся в виду конкретный человек — Филипп Орлеанский, брат Людовика XIV. Когда был жив брат Людовика XIII Гастон Орлеанский, который тогда имел титул «Анжуйский», было два «месье» — «великий месье» и «малый месье». Сейчас «месье» — общепринятое стандартное обращение граждан Франции друг к другу.
К.К.: Точно так же общеславянское «пан», которое используется в Чехии, от примерно Чехии и Польши до, насколько я понимаю, южных славян — это обозначение крупного землевладельца. «Дон» в Испании и так далее. Всё это очень четко указывает на то, что делает национализм. Национализм, в своем идеальном воплощении — это программа всеобщей аристократизации общества. Не демократизации, как некоторые думают, а именно превращения всей нации в аристократов. Очень важно, куда идет уравнивание — вниз или вверх. Так вот, национализм предполагает уравнивание вверх, то есть нация в целом, народ в целом получает права и обязанности высшего сословия. Она их себе присваивает. Как это можно назвать? Это можно назвать только одним словом — революция.
Слово «революция» на латинском языке означает буквально «переворот». То есть предполагается, что нечто высшее становится низшим, а низшее в свою очередь становится высшим. На самом деле в реальной революции обычно реализуется только одна сторона — либо все поднимаются, либо все падают. Либо революция асцендента, либо революция десцендента, — революция, которая поднимает народ, или революция, которая народ опускает. Так вот, национальная революция в своей идее — это революция, которая поднимает весь народ до чести и достоинства, пусть даже не материального достатка, но именно до чести и достоинства самых высших слоев общества. Все становятся господами. Возможно ли это? Да, это возможно. Естественно, революция не может дать каждому крестьянину по поместью, но она может ему дать, во-первых, те права, которые в свое время завоевала аристократия в долгой борьбе, например, с верховной властью. Потому что на самом деле все абсолютно права — именно права, а не законы, не обязанности — имеют чисто аристократическое происхождение. Все права были завоеваны именно аристократией. Так вот, народ в данном случае, когда он требует тех же прав для себя, он требует, по большому счету, чтобы его вознесли до уровня господ.

Разумеется, это предполагает и принятие на себя аристократических обязанностей. Например, так называемые выборы, демократические выборы — это на самом деле чисто аристократическая практика, потому что именно аристократы в свое время претендовали, и совершенно законно претендовали, на то, что они выбирают первого среди равных. Сама эта формулировка — абсолютно аристократическая. Кстати, такой институт, как, например, суд присяжных имеет чисто аристократическое происхождение и связан с тем, что господина могут судить только равные ему. Но если говорить об обязанностях, стоит вспомнить всеобщий военный призыв: если раньше участие в военных действиях было долгом аристократов и только аристократов, то в национальном государстве воюет весь народ. То есть все те практики, которые мы сегодня называем демократическими, на самом деле являются аристократическими, спроецированными в народную массу. И только пока народ удерживает те права и обязанности, которые он таким образом себе присвоил, до тех пор он является нацией.

Да, кстати, о самом слове «нация». Оно всегда обозначало аристократическое сословие. Например, в той же самой Польше нацией именовала себя только шляхта. Остальные — «быдло». Сейчас современная Польша, являющаяся абсолютно националистическим государством, предполагает, что все «шляхта». Там есть потомки старых шляхтичей, они пользуются определенным уважением, но не слишком большим. Но при этом «быдла» там нет, все стали панами. Каким образом происходит это возвышение народа до нации? Существуют разные модели. Иногда это происходит через уничтожение реальной аристократии. Например, так произошло во Франции. Французских аристократов физически почти не осталось: большая их часть в свое время уехала из страны или была истреблена во время Великой французской революции. Есть какие-то остатки, но людей с приставкой «де» физически мало. В Германии, допустим, произошло иначе, там не было истребления аристократии, «фоны» остались. Просто все остальные стали не хуже, чем «фоны», и сейчас это очень заметно. Совсем гладко прошла национальная революция в Британии: фактически она там совпала с революцией промышленной. Соответственно, аристократия сохранилась практически целиком и до сих пор пользуется огромным влиянием. Но слово «джентльмен» перестало быть обозначением сословной принадлежности ({{1}}) и стало обозначать «порядочного человека», «истинного англичанина». Как и везде, социальное стало общенациональным.
Итак, национальная революция — это революция, которая не свергает верхний слой, а наоборот, возносит нижний слой до прав и обязанностей верхнего. Люди уже способны воспринять более высокую культуру, более высокие обязанности, более высокие права, и вот тогда они становятся всеобщей нацией, и именно это и является подлинной национальной революцией. В чем российская проблема? Она есть. Российская проблема состоит в том, что перед нами нет аристократического образца, нет аристократов, обладающих правами. Российская аристократия, как известно, уничтожена, причем уничтожена, я бы сказал, основательно. У нас нет образцов русской аристократии, кроме каких-то очень смутных исторических напоминаний. Разве что Никита Михалков специально оставлен для того, чтобы издеваться над самой идеей аристократизма. В этом отношении перед нами стоит особо сложная задача, которая, может быть, не стояла перед другими нациями. Нам нужно создать свой собственный образец аристократизма, просто из самих себя. Это сложно, но это возможно. Русские, вообще говоря, довольно талантливые люди, и в данном случае для нас возможно и это. Но очень четко нужно понимать, что речь идет именно об этом — о вознесении всего народа, именно всего народа, до той высоты, на которой он, может быть, никогда не был. Это вознесение является не только политическим, но и духовным действием, и в этом отношении национальная революция — это революция духа, простите за пафос.
В этом отношении мы действительно должны создать совершенно новых русских, русских, которые могли бы быть, русских, которые не уступали бы по своим волевым, моральным, интеллектуальным и прочим качествам лучшим образцам европейской аристократии — именно на это нужно ориентироваться. И прежде всего на это должно ориентироваться русское движение. У нас нет других образцов, кроме нас самих, и именно поэтому мы должны копировать аристократические качества, начиная с довольно жесткой морали (под словом «мораль» я понимаю прежде всего различение добра и зла). То есть мы все должны вести себя прилично, мы все должны различать добро и зло, мы все должны показывать, что мы это делаем, мы не должны, например, лгать, быть небрежными в словах и так далее. Когда мы ведем себя как аристократы, благородные, когда мы ведем себя благородно — это та игра, в которую мы можем играть. И когда мы пытаемся себя вести неблагородно, мы всегда проигрываем, и это заметно.
По большому счету мы можем считать русское национальное движение попыткой авангарда русской нации: это те люди, которые пытаются подняться до образца. Когда мы сможем это сделать, мы сможем считать, что предпосылки для русской революции созданы. По большому счету именно сейчас, в ситуации, когда всей нации навязываются немыслимые модели поведения, когда из всякого радиоприемника слышится блатной шансон, когда единственным реально действующим законом являются уголовные «понятия» — мы должны этому противопоставить другой, совершенно иной, подлинно аристократический кодекс. Мы должны принять на себя обязанности этой самой национальной аристократии просто потому, что больше никто не может этого сделать. В частности, мы все, здесь сидящие, обязаны это сделать, и более того: насколько у нас это получится, настолько на самом деле успешными будут наши действия.
Я не знаю, какую форму примет национальная революция, может получиться совершенно по-разному. Условно говоря, от национального восстания и до очень мягкой передачи власти от одной группировки другой, но не это важно. Важно, что мы сами на этот момент будем из себя представлять. Либо мы примем на себя права и обязанности аристократов с полным сознанием ответственности за это (потому что, еще раз: права предполагают обязанности) — либо мы провалим революцию, и она будет бесплодной. Я все-таки надеюсь на первое. Благодарю за внимание.
Наталья Андросенко, шеф-редактор сайта «Русский обозреватель»: Небольшая иллюстрация к тезису Константина о том, что народ притязает на права аристократов. Такой была одна из основных линий Французской революции — народ притязал на мельницы. Крестьяне отбирали прежде всего у аристократов мельницы. Это имеет, конечно, и чисто материальное объяснение, они хотели молоть свое зерно без податей, но мельница — это был реально атрибут аристократов. Мельницей мог владеть только аристократ, только богатый феодал.
Е.Х.: Сейчас вместо мельниц — нефть и газ!
К.К.: Кстати, интересная версия — нефть, газ и алюминий как привилегия нынешних феодалов. Из сказанного прямо следует, что право народа на нефть нужно будет утвердить и что в таком случае реприватизация именно нефтянки является абсолютно необходимой. Это прямо следует из сказанного. Если это аристократическая привилегия сейчас, то совершенно очевидно, что каждый гражданин должен быть держателем хотя бы небольшой части национальных ресурсов.
Сергей Сергеев, научный редактор журнала «Вопросы национализма»: Я хотел бы рассмотреть данную тему в историко-социологическом ключе, который мне наиболее близок, и попытаться ответить на вопрос: была ли национальная революция в русской истории? Я думаю, что все здесь присутствующие на этот вопрос ответят скорее всего отрицательно. Хотя следует отметить, что некоторые русские революции решали отдельные задачи национальной революции. Но национальная революция как решение основного комплекса задач, которые обычно перед национальной революцией ставятся (грубо говоря, «рождение нации»), она, конечно, в России не произошла. И вот здесь интересно было бы задаться вопросом, почему, собственно говоря, так случилось.
Прежде чем обратиться к русскому историческому материалу, следует вспомнить все-таки о классических европейских национально-буржуазных революциях, которые завершились так или иначе успехом, и понять, почему, собственно говоря, стала возможной их победа. Наверное, здесь можно приводить массу причин, и возможно, те, кто будет выступать дальше, меня в этом отношении поправят и дополнят, но я хотел бы рассмотреть только одну причину.
Ясно, что революцию осуществляли, как правило, практически все слои населения, во всяком случае, кроме самого высшего, но ее плоды пожинали и закрепляли определенные, влиятельные и хорошо организованные социальные группы. Они обеспечивали реализацию этих результатов, поскольку они были в этом заинтересованы и у них были для этого возможности. Либо это оппозиционная часть правящего класса, либо это средние слои населения. Важно не только то, что эти социальные группы могли бросить вызов правящему классу или правящему режиму, но и то, что они могли, одержав победу с помощью низов, контролировать эти самые низы и навязать низам именно тот сценарий, который они хотели осуществить. Потому что в национальном государстве все-таки заинтересованы и не самые верхи, и не самые низы. В национальном государстве обычно заинтересованы так называемые средние слои.
Так вот, если мы посмотрим на наиболее успешную национальную революцию в Европе, на английскую, то совершенно очевидно, что она прошла под руководством среднего и мелкого дворянства — джентри, выступившего в союзе с торговой буржуазией. Эти слои, во-первых, подняли на свою сторону низы, а во-вторых, они оказались достаточно сильны, чтобы, одолев правящий режим, одолев короля, удержать страну в тех рамках, которые их устраивали, отбиться от тех вызовов, которые шли со стороны низов. Вспомним расправы над левеллерами и диггерами. Французский вариант — третье сословие, которое взяло на себя роль вождя национальной революции. Ситуация уже более сложная. Францию сотрясали весь XIX век социальные катастрофы вплоть до Парижской коммуны, пока наконец там не установился режим более-менее стабильной республики. А почему? Потому что социально-политическая позиция французской буржуазии не были столь сильной, как у английских джентри. В Германии, где буржуазия была еще слабее, мы видим совершенно другой сценарий: буржуазная революция провалилась, власть провела национальную революцию сверху, пошла на союз с буржуазией, и возник некий компромиссный вариант национального государства, бисмарковский, где правящий режим не был сметен. То есть масса вариантов, но во всяком случае ясно одно: что существуют влиятельные социальные группы, так или иначе определяющие развитие событий.
Что с этой точки зрения представляет Россия, русская история? Я сейчас не буду углубляться в тему, почему так получилось, но это факт, то, что для русской истории характерна так называемая гипертрофия государства. Во всяком случае, мы здесь будем говорить о России как минимум с эпохи Петра I. Гипертрофия государства и очень слабые, слабо структурированные и маловлиятельные средние и даже высшие социальные группы. И зато гигантский совершенно пласт низов, кстати, тоже в общем-то не структурированный и более того, погруженный в архаику, а иногда сознательно погружаемый в архаику государством и дворянством. Самодержавие не было, безусловно, заинтересовано в создании национального государства в России, во всяком случае в том смысле слова, который вкладывает в него современная гуманитарная наука, европейского национального государства. Для него было вполне комфортно и достаточно династическое сословное государство. И хорошо видно, что вплоть до Александра III сценарию национального государства русские государи сопротивлялись. Даже когда уже пошли Великие реформы, которые по своей сути были национальной революцией сверху, Александр II делал шаг вперед, два шага назад. Видно хорошо, как это происходило в Западном крае: то, когда поляки восставали, использовался националистический сценарий «Русского дела» М.Н. Муравьева с опорой на западнорусское крестьянство, то, как только поляки утихомиривались, опять вступали в традиционные династически-сословные договоренности с польской шляхтой.
Только начиная с Александра III мы действительно видим, что националистический сценарий господствует в теории и практике русских монархов. Да и то, я бы сказал, здесь было больше символического национализма, чем реальных практик. Например, такая вещь, как всеобщее образование, совершенно необходимое для национального государства, при Александре III, наоборот, только тормозилось, и оно было введено только в 1914 году. Далее, если сверху спустимся совсем вниз, мы увидим многомиллионное крестьянство, которое составляло пять шестых населения России. Крестьяне много восставали, были даже восстания, которые из-за их размаха можно было бы назвать революциями. Но были ли эти революции направлены на создание национального государства? Безусловно нет, в представлениях крестьян господствовала социальная и культурная архаика, с модерным национальным государством несовместимая, это были совершенно консервативные или даже реакционные революции.
Среднее сословие — тоже секрета не открою, буржуазии в России до второй половины XIX века фактически не было, купечество — это нечто другое, послереформенная буржуазия была очень слаба и всегда зависела от государства. Политические аппетиты буржуазии стали проявляться только в начале XX века, да и то, в общем, Ленин прав, что русская буржуазия «трусливо крадется к власти».
Откуда же вообще могла взяться идея национальной революции для создания русского национального государства, кому вообще нужно было русское национальное государство реально? Тут только один слой, который этого хотел и которому это было нужно, — это дворянство, которое, получив определенные, весьма обширные гражданские права при Екатерине II, хотело претендовать уже и на большее, на участие в управлении страной. Естественно, дискурс «царевых слуг» для этого не годился. Для этого дворянству нужен был дискурс «представителей нации», пусть это отчасти было и самозваное представительство. В любом случае, с начала XIX века мы видим, что дворянство становится в своем дискурсе совершенно националистическим. И где-то с эпохи Наполеоновских войн дворянство почти стопроцентно националистично. Другой вопрос, что этот национализм тоже был различен. Большинство дворянства довольствовалось символическим национализмом, то есть оно говорило: «Мы представители нации, мы выражаем ее интересы, да, Россия для русских», но практик общественных, которые делали бы Россию национальным государством, они нимало не требовали, соответствующих программ даже не выдвигали. Посмотрим на Ростопчина, на Карамзина, на других консервативных националистов: мы увидим националистическую публицистику, риторику, но никаких разработанных социально-политических программ.
На самом деле практическими политическими националистами была очень небольшая часть дворян, наиболее, скажем так, продвинутая, которая была более дальновидна и понимала, что гораздо лучше отказаться от роли крепостника и вместо этого получить права в управлении государством. Было ясно, что за этим будущее, Европа становилась националистической на глазах. Но еще раз повторяю, таких людей было не так уж много, их была горстка. Но это была действительно элита — интеллектуальная и политическая. И первая неудавшаяся русская национальная революция, собственно, была организована дворянами. Это декабристское восстание. Программы Пестеля и Никиты Муравьева всем известны, это стопроцентно программы создания национального государства, причем либерального демократического государства. И провал этого выступления отразился на дальнейшем развитии русской истории, на перспективах русской национальной революции самым катастрофическим образом. Дело в том, что при всей слабости соотношения с самодержавием у дворянства в тот момент был очень важный рычаг — гвардия, была опора в армии. После разгрома декабризма эти позиции были утрачены окончательно. Николай везде поставил своих людей, усилил тайную полицию, и никаких революций провести было невозможно. Единственное, что оставалось — взывать к низам, поднимать крестьянство, но дворяне, естественно, этого не хотели.
Декабристы, между прочим, совершенно отрицательно относились к сценарию крестьянской революции, славянофилы и западники тоже, даже Герцен, никто не хотел этого, прекрасно понимая, чем это может кончиться, дворяне Пугачевщину прекрасно помнили. Итак: либо неприемлемый вариант крестьянской революции, либо надеяться, что самодержавие само, эволюционно пойдет на революцию сверху. Отсюда популярность фигуры Петра I среди западников: Петр как революционер на троне, как пример нынешним самодержцам, само же самодержавие национальную революцию и осуществит.
Казалось бы, Великие реформы, которые реализовали на практике именно русские националисты, и западники, и славянофилы — Кавелин, Чичерин, братья Милютины как западники, Самарин, Черкасский, Кошелев как славянофилы — это была именно национальная революция сверху. Но что происходит дальше? Происходит дальше то, что эта революция оказалась половинчатой. Почему? Потому что она не создала новые группы, заинтересованные в национальном государстве, потому что крестьянство осталось в той же самой социокультурной архаике. Единственный вариант, чтобы появилась новая влиятельная социальная сила, — это было бы формирование из крестьян нового класса, то есть должно было произойти расслоение крестьянства и формирование слоя крестьян-частных собственников, чем потом занимался Столыпин. Это, естественно, нужно было делать в 60-х годах XIX века. Но практически единодушно все дворяне-реформаторы были противниками этого сценария, то есть все стояли за сохранение общины, в том числе и ведущие националисты, тот же самый Самарин, например. Я знаю только одного влиятельного мыслителя той эпохи — это Борис Николаевич Чичерин, который последовательно отстаивал идею крестьянской частной собственности, но оказался почти в полном одиночестве.
И что же дальше мы видим? Вроде бы произошли реформы — освобождение крестьян, суд присяжных, освобождение прессы от цензуры и много других либеральных реформ, то есть вроде бы то, что должно было бы привести к созданию национального государства. Но конфигурация остается та же самая — все та же гипертрофия государства, гипертрофия самодержавия и все те же слабые социальные группы. Не появляются новые группы, которым идея национального государства была бы выгодна. И все это замораживается на очень долгое время. При этом появляется новая небольшая количественно, но качественно важная социальная группа под названием интеллигенция, которая далека уже от националистических ценностей.
Если национальное государство — это модерн, то интеллигенция уже ориентируется на сверхмодерн, на социализм, для которого национальная проблема уже вторична и неинтересна. Сначала между интеллигенцией и крестьянством — стена, крестьяне вяжут пропагандистов, но со временем, к началу XX века, становится понятным, что архаика крестьянства и сверхмодерн социалистической интеллигенции все больше и больше подают друг другу руку и эти вроде бы беспочвенные интеллигенты обретают под собой очень серьезную почву. А националисты висят, как ни странно, в воздухе.
Новый виток, который мог бы привести Россию к национальной революции, который мог бы ее осуществить, связан с 1905 годом, во всяком случае, революция до 17 октября 1905 года решала национальные задачи и была общенародной революцией: манифест 17 октября был шагом вперед к национальному государству, и реформа Столыпина должна была решить проблему массового социального слоя, являющегося гарантом национального государства. Но было уже слишком поздно. Нашедшие друг друга социалистическая интеллигенция и архаическое крестьянство в конечном итоге остановили этот сценарий, и получилось нечто совсем иное, а не русское национальное государство.
В СССР гипертрофия государства была такая, что и не снилась Российской империи, разумеется, никаких независимых социальных групп там быть не могло. Революция 90-х годов, которая тоже могла бы стать национальной революцией, провалилась по тем же самым причинам, — потому что не было влиятельных социальных сил, которые могли бы контролировать и реализовывать националистический сценарий, зато имелись хорошо организованные группы коммунистической номенклатуры и криминалитета, взявшие ситуацию под свое крыло, и отсюда возникает прекрасная страна РФ.
Ну и, наконец, подходим к злобе дня. Сегодня только ленивый не говорит о национальной революции; так вот, возникает в этой связи вопрос: реальность падения правящего режима довольно велика, как мне представляется, но вот что будет дальше и кто (что), какая социальная группа или группы смогут этот сценарий реализовывать, контролировать, упорядочивать? Нужно быть слишком уж розовым оптимистом, полагая, что смена политического режима решит все наши проблемы. В современной России наблюдается все то же отсутствие четко выраженных социальных групп, заинтересованных в строительстве национального государства. Не бывает так, чтобы все общество в этом стихийно участвовало, — должны быть определенные группы влияния, нужен опирающийся на них политический класс, организующий нациостроительство. Эти все надо еще создавать. А то как бы не вышло, что вместо одной антинациональной клики к власти придет другая не менее антинациональная клика, которая выстроит новую антирусскую «вертикаль власти», и мы вернемся к прежнему варианту, только с другими лицами и набором тяжелых проблем, порожденных социальными потрясениями. Это я говорю не для того, чтобы бросить тень на саму идею национальной революции, другого варианта нет, — это к вопросу об «оптимизме воли и пессимизме разума» (Грамши) и о возможных сценариях будущего. Спасибо.
Валерий Соловей, доктор исторических наук, профессор: Господа, несмотря на свое профессиональное историческое образование, я очень не люблю историческую казуистику. Изучение истории позволило мне понять, что в истории при желании можно найти как аргументы в пользу какой угодно точки зрения, так и контраргументы. Причем в истории одной и той же страны. Поэтому я буду говорить о том, что, на мой взгляд, и должно нас занимать в первую очередь, то есть о современной России. Революции последних двадцати лет в Европе, революции на исходе СССР, «оранжевые революции» и последние по времени арабские революции сочетали два компонента — националистический и буржуазно-демократический. Пропорция различалась, но эти компоненты были основными, составляя, так сказать, главное содержание революционных блюд. Другое дело, что из характера самой революции вовсе не следует ее результат.
Революция может быть национально-демократической по своему характеру, но в результате ее совсем не обязательно конституируется демократическое национальное государство. Характер государственного строя и режима, который возникает после и вследствие революции, есть результат случайного сочетания обстоятельств, уникальной конкретноисторической констелляции, никаких универсальных закономерностей здесь не существует. Революция в России, которая происходила в рамках Советского Союза на рубеже 80–90-х годов, также была национально-демократической по своему потенциалу. Почему этот потенциал не реализовался, Сергей Сергеев отчасти сказал. Но не реализовался он в том числе и потому, что, и это нужно честно признать, националисты не представляли из себя сколько-нибудь значимую силу. Если бы они эту силу представляли, если бы они в этой революции участвовали, а не выступали на стороне гибнущей системы, то могли бы повлиять на траекторию и конфигурацию новой, возникающей системы.
Е. Х.: Сейчас нас обвиняют в прямо противоположном, что якобы Ельцин был националистом…
В.С.: Ельцин не был националистом, но использовал силу и возможности националистической мобилизации значительно эффективней, чем все другие политические силы, включая самих националистов. Однако строй, который возник в России, не является демократическим. Он является буржуазным, но совершенно и последовательно антирусским, потому что всеми своими практиками уничтожает русских. Еще одно важное замечание: в результате революции рубежа 80–90-х годов прошлого века не было создано государство более сильное, чем разрушенное. А создание такого государства считается критерием завершения революции. Таким образом, революция в Российской Федерации совершенно точно не завершилась. Более того, она стоит на повестке дня. Причем теоретически это должна быть революция не только демократическая, но еще и национально-освободительная в прямом смысле слова, ибо речь идет об освобождении русского общества от фактически колониального гнета.
Какие формы примет эта революция, каковы будут ее этапы и динамика — этого не знает и не может знать никто. Сейчас очевидно только одно: мы скользим в направлении масштабного общенационального кризиса. Его признаков изрядно, но я назову лишь два наиболее, с моей точки зрения, важных. Первый: сейчас происходит этническая мобилизация русских, каковой не наблюдалось со времен Великой Отечественной войны. Второй: резкий рост агрессивности русского общества, причем агрессия эта сейчас уже не рассеивается, как прежде, а направлена против двух основных мишеней — власти и инородцев. Ничего даже близко похожего последние двадцать лет не наблюдалось. Мы имеем дело с качественным сдвигом, свидетельствующим, что русское общество готово к радикальным методам борьбы за изменение своего положения. Развязка этого кризиса будет решающим образом зависеть от действий и позиции активных гражданских и политических групп. В истории не раз возникали ситуации, когда 20–30 человек оказывались в состоянии изменить судьбу своей страны и своего народа и даже повлиять на ход мировой истории. Для этого нужны всего две вещи: трезво и без иллюзий смотреть в будущее и отдавать себе ясный отчет, что отступить невозможно.
Владимир Тор, исполнительный директор Фонда поддержки и развития гражданского общества «РОД»: С одной стороны, мне кажется, что всем присутствующим, и не только присутствующим, а вообще всем здравомыслящим людям в России понятно, что так жить дальше нельзя. Мы стоим на пороге больших системных перемен. Нынешний режим несостоятелен, и так или иначе он будет вынужден измениться. Либо изменится система власти, либо изменится субъект власти. Либо одно, либо другое совершенно неизбежно.
Второй момент. У русских националистов есть свои кардинальные интересы. Я не представляю, чтобы эти интересы были реализованы вне пути национальной революции, потому что слишком далеко нынешний режим отходит от русских национальных интересов, и любая попытка их заявить представляет собой революционное изменение общества, иначе это достигнуто быть не может. Идти шаг за шагом, постепенно, чтобы власть стала более русской — это невозможно. Любой шаг в эту сторону будет революционным шагом. Какая на этом пути существует проблема? Если мы посмотрим на опыт революции, как она воспринимается в глазах социума, то революция — это трагедия, по крайней мере по отношению к русским. Это была трагедия в 1905 году, это была трагедия в 1917 году, это была трагедия в 1991 году, это была трагедия в 1993 году. Ни в одной из этих прошедших революций русские националисты не смогли сыграть решающую роль, которая позволила бы им говорить, что они являлись бенефициаром процесса, держали бы какие-то преференции для русских в этих рамках.
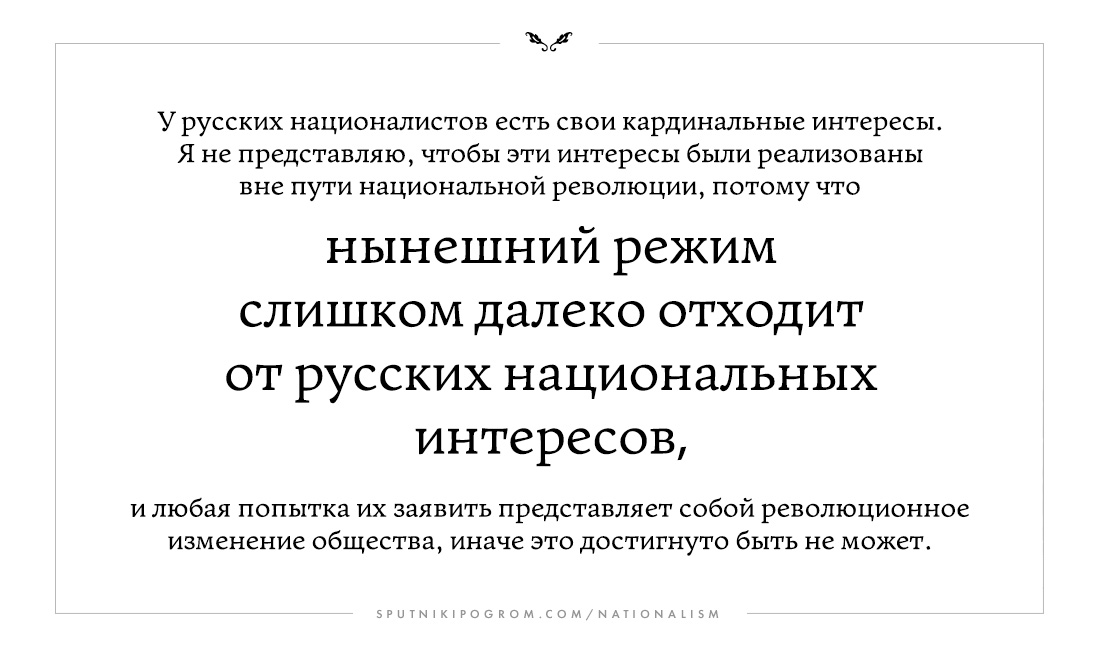
Это трагическое противоречие: с одной стороны, революция неизбежна, с другой — весь предшествующий опыт, который находится в памяти поколений, говорит, что русские националисты проигрывают в революционной ситуации. Какой практический вывод из этого следует? Что русским националистам, которые хотят блага для своего народа и хотят достичь какого-то политического результата, надо думать о революции как неизбежном событии, совершенно неизбежном, и думать о том, как наращивать свои организационные усилия, чтобы обеспечить свое решающее влияние в революционных процессах и обеспечить то, чтобы русским достались преференции в результате этих процессов. Грубо говоря, надо лучше работать, надо лучше организовываться, надо на место ломающейся системы представить другую систему, которая могла бы заменить нынешнюю власть, нынешний режим. Без этого просто невозможно выжить.
Егор Холмогоров, главный редактор сайта «Русский обозреватель»: Мне представляется очень важным осознать — и в смысле политического анализа, и в смысле практической политики — различение между революцией и бунтом. У нас, к сожалению, очень примитивное восприятие социального феномена бунта, который основан на известной французской максиме: «мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе». То есть с нашей точки зрения бунт — это неудавшаяся революция, а революция — это удавшийся бунт. Это не совсем так. Для традиционных обществ, для обществ средневековых и так далее бунт был принципиально другой формой политического действия, принципиально другой формой для коммуникации народа и власти, в основе которой лежала простая идея: люди предпринимают ряд насильственных действий против высших слоев общества, против правителя, против элиты, убивают кого-то, после чего, конечно, бунт терпит поражение. После этого поражения с зачинщиками бунта обычно расправляются.
Однако, что очень важно — это прекрасно, например, показано в работах Бориса Федоровича Поршнева, посвященных анализу социальных процессов во Франции эпохи перед Фрондой — как правило, требования восставших удовлетворяются либо частично, либо полностью, но они удовлетворяются. Например, если народ восставал против налогообложения, то на достаточно приличный срок это налогообложение прекращалось, снижалось. «Неудача была не такой полной, как это кажется, — писал Фернан Бродель о бунтах раннего Нового времени. — Да, крестьянина всегда крутыми мерами приводили к повиновению, но с окончанием этих возмущений нередко достигался прогресс. Разве в 1358 г. жаки не обеспечили свободное состояние крестьян вокруг Парижа?.. Была ли Крестьянская война 1525 года полной неудачей? Пусть даже так. Восставший крестьянин между Эльбой и Рейном не сделался крепостным, как крестьянин заэльбских областей; он сохранил свои вольности, свои старинные права». В русской истории, особенно в рамках московской политической культуры, бунт был постоянным механизмом коммуникации между городом и царем({{2}}). Наиболее известными и эффективными бунтами в этом смысле были бунты эпохи Алексея Михайловича — Соляной (1648) и Медный (1662). В обоих случаях народ добился кардинальной смены политики правительства.
Бунт в России являлся инструментом коммуникации, инструментом давления. Революция — это не «удавшийся бунт». Революция — это форма политического действия, в котором его зачинщики, организаторы, те люди, которые выступают ее идеологами и ее практиками, ее менеджерами, ставят своей важной принципиальной целью свою безнаказанность. Революционер отличается от бунтовщика, строго говоря, с формальной этической точки зрения в худшую сторону. Бунтовщик рассматривает свое повешение как допустимую плату за получение тех преференций, которых требует народ. Зачинщик бунта — это человек, который знает, что вот он поорет, и его повесят, но еще несколько десятков лет или несколько сот лет в этой местности будут петь о нем песни и рассказывать о нем сказки. Революционеру этого мало. Он хочет остаться после революции живым, здоровым и, желательно, имеющим больше политических прав, больший политический ресурс, чем до этого. То есть революционер, который до этого ставит своей задачей просто пожертвовать своей жизнью ради народа, — это плохой революционер, это революционер-неудачник. Любой политический организатор революций ставит своей задачей свою безнаказанность. Она не всегда может реализоваться фактически. Очень часто революционеров в результате все-таки вешают, и ситуация приобретает характер бунта. Например, бунт декабристов — он, с одной стороны, несомненно ухудшил положение российского дворянства, с другой стороны, по формальным признакам николаевское царствование было более национальным, чем александровское.
Следующая вещь, о которой хотелось бы сказать, — это то, о чем говорили Константин Анатольевич и Сергей Михайлович, — о причинах неудачи, несостоятельности русских национальных революций. Мне представляется, что принципиальной причиной является то, что в течение длительного времени в России прекратился какой-либо нормальный политический процесс, т.е. исчезла естественная государственность в том смысле, в котором эта естественная государственность существовала в большей части стран Европы.
Петровские реформы породили абсолютно искусственную государственность. То есть, строго говоря, трансформация нормального преднационального государства эпохи Ивана III в то, что я в своих публикациях полугодовалой давности назвал «таможенным государством» — это вело к отчуждению государственности от нации. Петровская реформа окончательно создала культурное отчуждение, создала ненормальную политическую ситуацию, в которой развитие государства не сопровождалось развитием сословий. Не развивалось нормально крестьянское сословие, было пресечено нормальное развитие городского сословия, кошмарная трансформация произошла с русской аристократией, где естественная боярская аристократия прекратилась и было создано абсолютно искусственное политическое сословие шляхты.
Конечно, эта шляхта стала приобретать черты русского дворянства, как справедливо сказал Сергей Михайлович, она стала выдвигать те или иные притязания, но по сути произошла трансформация, т.е. исчезли естественные сословия, и в этих условиях некому было выступать в качестве силы, притязающей на национальную революцию. Очень интересный момент, на который мне хотелось бы обратить внимание в связи с интерпретацией русской истории, это конец 1870-х — начало 1880-х, как раз тогда, когда в ходе александровских реформ начала обозначаться межсословная или всесословная русская нация, и она один раз очень четко себя проявила. Но она проявила себя не в форме революции, а, как в свое время писала Светлана Лурье, «в определенный момент русский народ осознал себя находящимся в состоянии войны с Османской Турцией, и государству пришлось присоединиться к этой войне».
По той цепочке событий, которые привели тогда к русско-турецкой войне, очень четко прослеживается, что так действует нация. И, строго говоря, у этой нации даже появился свой лидер, свой идеологический, политический и военный лидер — генерал Скобелев. Появился лозунг: «Россия для русских, славянство для славян», появились легитимные этноцентрические цели. Это очень важный момент, когда нация наряду с гражданскими лозунгами выдвигает определенные этноцентрические лозунги. Через панславизм фактически появилось легитимное обоснование русского этноцентризма.
Но всё это было очень «своевременно» и очень жестко свернуто при помощи яда, ликвидации Скобелева, тайных операций, переключения внимания на борьбу с социалистическим движением… В итоге правительство предпочло остаться один на один с социалистами и либералами и устранить националистов из игры полностью. Этого, кстати, никогда не надо забывать, что в критический момент наша весьма паразитарная государственность предпочитает оставаться один на один с левыми радикалами, а не с националистами; вывод националистов из игры является начальным условием для каких-то политических процессов, которые потом приводят к либеральной революции, социалистической революции, какой угодно революции (кроме национальной, разумеется).
Еще одна вещь, о которой хотелось бы сказать в связи с тем, о чем говорил Константин Анатольевич: о распространении на нацию аристократических привилегий и образцов. В России, к сожалению, несуществование нормальных сословий, развитие ненормального сословия постпетровской шляхты этому мешало. Например, я вспоминаю призыв Ивана Аксакова, кажется, в 1861 году, когда он открыто опубликовал призыв о том, что русское дворянство должно самоупраздниться и отказаться от своих привилегий. То есть в каком-то смысле распространить их на народ. Идея в этом смысле абсолютно классически-националистическая. Но беда в том, что это была идея распространения прав на весь народ антинациональной по сути своей социальной группы. И вот здесь возникает проблема: где та аристократия, на которую нам ориентироваться?
То есть, грубо говоря, является ли ею русское дворянство постпетровского образца или русское дворянство допетровского образца? То есть какой из двух аристократий мы в этом смысле хотим чувствовать себя родственниками? Понятное дело, что определенная преемственность сохранялась, ее можно проследить в политическом сознании Пушкина, где его либерализм, его очень часто радикальный антимонархизм — не против идеи монархии, а против определенных императоров — был замешан именно на обостренной боярской спеси. То же самое мы можем наблюдать в самосознании Михаила Михайловича Щербатова — именно спесь представителя старого боярского рода делает его фактически оппозиционером, консерватором и защитником гораздо более национальной линии, которая проводилась в нерусское во многих отношениях царствование Екатерины II.
К.К.: Кстати, между прочим, между гражданским пафосом и боярской спесью не такое уж большое расстояние.
Е.Х.: Пушкин был выходцем из служилого боярства, то есть боярства, ощущавшего, что оно само создавало это государство, которое было в какой-то момент просто украдено и превращено Петром в собственность даже не царского рода — потому что царский род очень быстро пресекся, а некой интернациональной олигархии, представители которой весь XVIII век русский трон совершенно произвольно делили между собой и в итоге его сделали скорее немецким, нежели русским. Выбрав подлинные аристократические ориентиры, мы получим и верный образ нации.
Надежда Шалимова, шеф-редактор журнала «Вопросы национализма»: Я хочу обратить внимание вот на что. Национализм, как мы, европейцы, его понимаем, — это не то же самое, что примитивная племенная солидарность. Племенная солидарность, когда «свой» всегда прав, а «чужой» всегда неправ, — это еще не национализм. На мой взгляд, национализм начинается там, где в племенные отношения привносится идея справедливости. Нация — это прежде всего союз равных, между которыми существуют отношения взаимного доверия. Или даже уточним, нация — это люди, которые верят друг другу на слово, и это слово твердое. Именно это обстоятельство делает возможным неграбительский, продуктивный капитализм, который возможен только там, где не обманывают друг друга, а с обманщиком перестают иметь дело.
Это же делает возможным общенациональную войну, когда вся нация выступает против другой нации или другого государства, поскольку все верят в то, что их дело в целом справедливое. Это же делает возможным и законность, когда народ верит в справедливый суд. И в этом смысле русские готовы к тому, чтобы стать нацией, потому что мы все устали от ситуации, когда никто никому не верит и никому верить нельзя. Мы еще не готовы верить друг другу, но мы хотели бы жить в обществе взаимного доверия, в обществе, где есть честное слово и оно соблюдается. Может быть, это и есть тот «аристократический момент», о котором говорили Константин и Егор. Во всяком случае, он есть, потому что всем надоел беспредел.

Павел Святенков, политолог: Нация появляется там, где люди получают права. Прежде всего — право на свободу от рабства, незаконных налогов, всех видов внешнего угнетения. Рассмотрим, как процесс становления нации происходил на практике. Российские историки утверждают, что были времена, когда российское дворянство было закрепощено, как и крестьянство, то есть просто существовали разные уровни закрепощения. Дворянин был обязан нести службу государеву, если он отказывался это делать, он лишался поместья. Крестьянин должен был нести повинности, в том числе работать на помещика, и у каждого в крепостной системе было свое место.
Если мы обратимся к истории Европы, мы увидим, что освобождение и построение национального государства началось, как ни странно, с монархов. С точки зрения той концепции, которую навязывают в школе, монарх в Средневековье — это неограниченный глава государства. Но на деле, конечно, глава государства или глава княжества был ограничен религией. Даже вступать в брак против воли католической церкви было опасно, можно было оказаться свергнутым с престола. Освобождение европейцев, построение национального государства начинается с того момента, когда европейские короли начинают освобождаться от власти папства. Формула «чья страна, того и вера», зафиксированная по Аугсбургскому миру, дала старт к построению европейских национальных государств. Наличие во главе государства человека, который обладает правами, ни от кого не зависит и действует в своих частных интересах, оказалось весьма эффективной практикой, потому что если король является частным владельцем страны, то он скорее всего будет действовать государству во благо, потому что усиление государства будет означать усиление монарха. Освобождение королей от власти папства уже создает нацию. Правда, нация на первом этапе состоит из одного-единственного человека, обладающего свободой и правами, — самого короля.
На втором этапе стала освобождаться аристократия. Она начала осознавать себя не просто как рабов монарха, но как сообщество людей, наделенное правами. Наиболее ярко это проявилось в Польше, где возникла развитая демократическая традиция. Существовал выборный Сейм, существовал выборный Сенат, куда, правда, входили наиболее богатые представители шляхты. Поляки могут гордиться, что в их стране в условиях, когда еще никаких буржуазных революций не было, как минимум 10% населения имело избирательные права. Больше того, выборным был даже польский король. Ситуация, нехарактерная для Европы, где большинство монархов были наследственными. Правда, император Священной Римской империи также избирался, но на его выборах право голоса имели только семь «князей-выборщиков» (курфюрстов). Именно польская шляхта стала осознавать себя как нацию. Термин «нация» в Польше был применен к людям, обладающим политическими правами.
Буржуазные революции создали экономическую основу для получения прав все большим количеством людей. В XIX веке возникают целые сословия граждан, которые наделены правами, которых можно назвать нацией. Нация в этот момент еще не распространена на народ в целом, но постоянно расширяется. Например, весь XIX век Великобритания последовательно проводила избирательные реформы, в результате которых все большее число людей получало право голосовать на выборах в палату общин. В конце концов уже в 20-х годах прошлого столетия право голоса получили все.
В России на самом деле было две попытки образования нации. Первая попытка была связана с дворянством, Сергей Сергеев абсолютно прав. Дворянство — политическое сословие, которое получило гражданские права от Петра III (в дальнейшем они были подтверждены Екатериной Великой): право не служить в армии, право дворянского самоуправления и многие другие. Пост предводителя дворянства, который избирался самими дворянами, был очень значим: «первый секретарь обкома», власть ему принадлежала изрядная. А вторая попытка построения нации в России связана с возникновением интеллигенции. Интеллигенция, как ее понимали в XIX веке, — это аристократия духа, аристократия образования. У нас ни первая, ни вторая попытка нации не удалась. Дворянство почти стало нацией, но нацией крепостнической, чьи права и благополучие основывались на угнетении крестьян.
Революция 1917 года прекратила процесс нациегенеза на этом направлении. Что касается интеллигенции, то она была ошельмована, вытеснена с исторической сцены, объявлена прослойкой. В наши дни образованные люди не стремятся ассоциировать себя с этим слоем. Сегодня никто не говорит: «я интеллигент». Поговорим о соотношении нации и революции. Нация возникает как протест против господства внешних сил, которые угнетают народ, лишают его возможностей для развития. Например, американская нация, которая этнически была очень близка к нации английской, — она возникла в результате протеста против экономического угнетения, против введения налогов английским парламентом без согласия американцев. Поэтому нация возникает, когда люди скидывают эту систему внешнего давления, внешнего контроля, структуру господства. Нация возникает в результате революции.
Если посмотреть на Россию, то Россия движется в этом же направлении. За последние двадцать лет, да и за весь XX век русские лишились прав и свобод, и сейчас Россия катится к модели «третьего мира», где есть авторитарное правительство, есть очень небольшая группа людей — процентов 5 или 10, жирующих вокруг этого правительства, и есть угнетенное, лишенное прав большинство, которое всегда стремится восстановить справедливость. В связи с этим мы оказываемся перед необходимостью национальной революции. Россия либо обречена на национальную революцию и построение современного государства, либо на деградацию по сценарию стран «третьего мира».
Все-таки мне кажется, что первый вариант более вероятен, ибо во всем остальном мире идет волна демократизации. Речь идет не только об арабских странах. Например, многие крупные страны Латинской Америки, такие как Бразилия и Аргентина, за последние десятилетия прошли путь от военных диктатур к стабильным цивилизованным демократическим режимам. Аналогичные процессы идут в Турции. Растет экономика Индии, и все больше людей вовлекается в политику в этой стране. Китай остается коммунистическим государством, но понятно, что с учетом темпов роста его экономики рано или поздно он также станет демократической страной. Я думаю, что тот тренд, на который ставят наши власти, — антиразвитие, распад, гниение государства и всего, что есть в стране, на корню, — он все-таки будет остановлен, так как находится в противофазе мировому процессу, смысл которого — повсеместное повышение уровня жизни и демократизация.
[[1]]Слово джентльмен происходит от лат. gentilis (принадлежащий к расе или родне) и англ. man (мужчина). Буквальный перевод — родовитый. В Средние века словом джентльмен называли членов нетитулованного дворянства — gentry, к которому относились рыцари и потомки младших сыновей феодалов (не получавшие наследства по майорату). — К.К.[[1]]
[[2]] Бродель Фернан. Игры обмена. М.: Прогресс, 1988. С. 501.[[2]]



