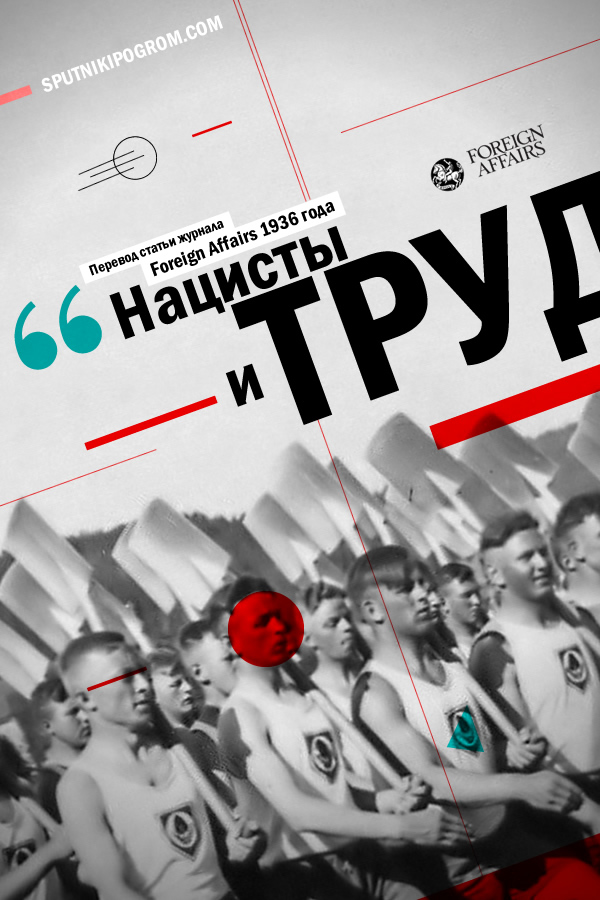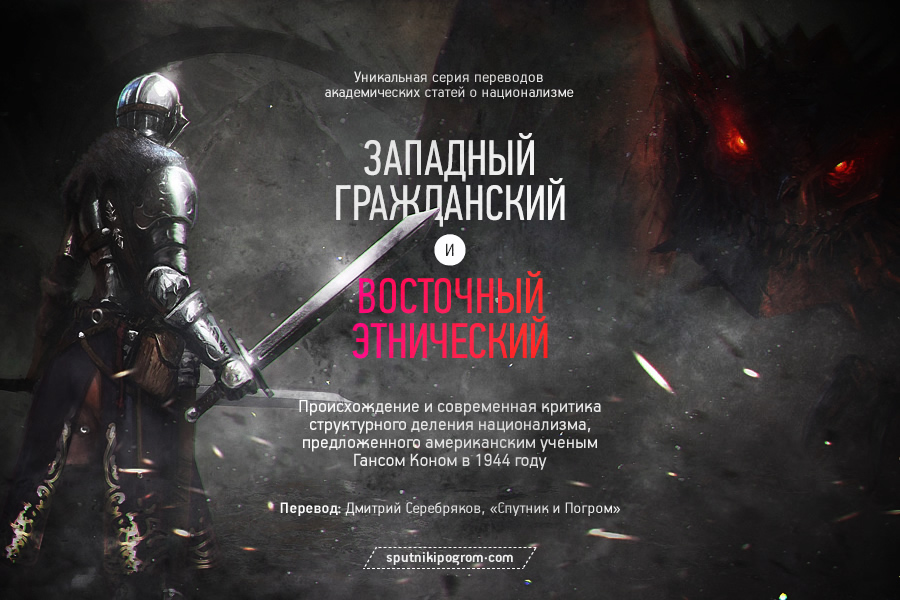К концу прошлого года, когда кризис Еврозоны достиг пика (очередного), некоторые журналисты ведущих германских изданий начали предупреждать своих читателей о тех аспектах кризиса, которые до сих пор привлекали мало внимания: кризис еврозоны отмечен не только провалом европейских банкиров, или греческих бюрократов, или итальянских налогонеплательщиков, или Ангелы Меркель (в зависимости от точки зрения) — он также отмечен очевидным фиаско европейских интеллектуалов. Почему они не защищают великие достижения европейской интеграции? Почему они не акцентируют привлекательную модель будущего континента, вместо этого разбазаривая великое наследие доверия и взаимопонимания, которое взращивалось десятилетиями? Они что, просто проспали кризис, который может возвестить о возврате уродливых форм национализма? Или даже военных конфликтов, о чем отцы-основатели ЕС не уставали предупреждать?
Характерная идея «провала» или даже «предательства» интеллектуалов происходит родом из 20-го века. Последний повсеместно понимается как «век идеологий»: идеи имели не только общее абстрактное значение, они напрямую находили применение в политике и превращались в смертоносную силу. Только вдумайтесь в знаменитое замечание Чеслава Милоша, что в середине 20-го века «жители многих европейских стран пришли к неприятному выводу, что их судьбу могут определять сложные и заумные философские книги». Интеллектуалы действовали на исторической сцене, принимая участие в кровавой драме противостояния между либеральной демократией, фашизмом и советским коммунизмом.
С этой точки зрения, в чем же состоял «провал»? В неверном озвучивании установленных идеологических рамок? В 1927-м году французский эссеист и моралист Жюльен Бенда обвинил некоторых писателей и философов в предательстве своего предназначения путем защиты позиций националистов: настоящие интеллектуалы должны озвучивать (вне зависимости от временного и исторического контекста ) универсальные истины вместо того, чтобы участвовать в деле продвижения национальных интересов. Однако интеллектуалы, защищавшие универсальные коммунистические идеалы, также были обвинены в предательстве, в основном за слепую веру в ложь сталинизма и игнорирование очевидно скорого конца Советского Союза.
Сегодня позиция «провала» показаться странной: интеллектуалы — не школьники, которые могут провалить экзамены, в то время как другие интеллектуалы их экзаменуют. Они не привязаны к тем же правилам деятельности, что и обученные профессионалы. Но это не значит, что в условиях сложных обстоятельств 20-го века интеллектуалы не могут быть фундаментально неправы с точки зрения либеральных демократических ценностей: они могут сами стать убежденными националистами или же безоговорочно смириться с подъемом национализма, не осуждая его. Они также могут «провалиться», просто проглядев глубочайшую несправедливость того, что делается во имя урезания расходов и бюджетных ограничений.
Нужно рассмотреть очевидный пример Греции и Германии: в то время, как отношения на высшем политическом уровне между двумя странами остаются сравнительно цивилизованными, отношения между гражданскими обществами соответствующих стран становятся все менее цивилизованными. На площади Синтагма (площадь в Афинах — прим. пер.) демонстранты держат плакаты, приравнивающие новый, навязанный ЕС режим к Дахау (апофеозом чего становятся лозунги Memorandum Macht Frei); есть также партия, во всем, кроме названия, являющаяся анти-германской («независимые греки», Anixartitoi Ellines, которая декларирует сопротивление «Четвертому Рейху», проводя параллели с германской оккупацией 1940-х). В Германии, где нет сопоставимой риторики и символов, уравнивающих прошлое и настоящее (в силу очевидных причин…), существует бурчание о ленивых южанах, вдохновляемое глубоко безответственной желтой прессой.
Однако те, кто требовал большего участия европейских интеллектуалов, обычно хотели большего, чем просто голоса разума, пытающегося сдержать национализм: они требовали формирования видения цельной картины общества. В конце концов, в прошлом Европы в них нет недостатка: в период с 1306 по 1945 историки насчитывают как минимум 182 концепции европейского единства с такими фигурами, как Шарль Сен-Пьер (автор книги «Проект вечного мира» — прим. пер.) и, разумеется, Куденхови-Калерги (основатель Паневропейского союза — прим. пер.) в качестве выдающихся представителей. Хотя в послевоенной Европе имелось множество высококультурных проектов, посвященных единству Европы или предполагаемому «кризису Европейской цивилизации» (некоторые упоминают в связи с этим Жюльена Бенда), сложно представить эпоху 1950-х и 1960-х золотым веком дебатов интеллектуалов о Европе, предоставленной самой себе.
Можно вспомнить об исключениях, особенно об идеалистах, появившихся на волне различных движений сопротивления и защищавших федеративную, демократическую Европу, таких как Вальтер Диркс и Альтьеро Спинелли. Но целями интеллектуалов были другие вопросы — Холодная война и деколонизация, которые были приоритетны для Европы, ставшей объектом политики сверхдержав. В целом у многих возникало чувство, что только тогда, когда будет достигнут необходимый моральный консенсус по этим важнейшим вопросам, когда Европа каким-то образом покончит с одержимостью колониализмом или капитализмом, интеллектуалам стоит приступать к разговорам о европейской интеграции как таковой. Французский социолог Эдгар Моран, к примеру, был одним из многих интеллектуалов левого крыла, и считал Европу загрязненной злом колониализма. Только после деколонизации 1960-х левые могли начать поддерживать идею европейского единства.
В целом можно утверждать: европейская интеграция развивалась в отсутствие целостных продуманных концепций. На деле, как будет подчеркивать любой приличный учебник ЕС, самой идеей стала интеграция маленькими шагами, или, говоря менее корректно, крадущаяся интеграция. Основатели — Жан Монне, в первую очередь — могли иметь высочайшие моральные ценности, но сам по себе проект развился на базе технократических императивов, а не потому, что европейцы увидели моральную ценность построения всеевропейской политической общности.
Разумеется, с точки зрения многих наблюдателей, это и есть суть проблемы. Апокрифическое изречение Монне — что необходимо было начать с культуры — обычно упоминается теми, кто видят главную проблему ЕС в отсутствии смыслового наполнения и способности вдохновлять лояльность ЕС, или просто «энтузиазм». Интеллектуалы, по их мнению, должны поддержать проект, который был предпринят без их участия, и который сейчас отчаянно нуждается в них, чтобы озвучить причины для его дальнейшего развития (и, в идеале, сформулировать тезисы, легитимизирующие его прошлое, настоящее и будущее раз и навсегда).
Это является лишь сформулированным другими словами тезисом о том, что интеллектуалы должны снова сыграть свою классическую для 19-го столетия роль: писатели и, в особенности, историки, должны легитимизировать великий национальный (или, в данном случае, наднациональный) проект объединения великолепными произведениями, сформулировать и, в идеале, кодифицировать «Европейские ценности», возможно даже в форме Великого Европейского Романа. Это, разумеется, карикатура: не все описывающие историю Европы и выдумывающие концепции для европейских музеев являются частью общего дела по национальному строительству или хотят создать общие легитимные ценности для господ из Berlaymont (главный офис ЕС в Брюсселе — прим. пер.); На деле остается в высшей степени разумным и желательным, чтобы историки различных национальных государств поделились своими точками зрения и определили, в какой степени они на самом деле могут быть интегрированы. И еще: требования Великой Европейской Истории в крайней степени вторит логике национального строительства 19-го века. Это часто декларируется настолько прямо, что не остается сомнений о предполагаемых целях этой истории — подумайте о призывах рассматривать Холокост как «основополагающий» миф Европы, что, с точки зрения истории, является просто бессмыслицей. Чтобы быть понятным — речь не идет о призыве французских крестьян в вооруженные силы и не о создании системы республиканских лицеев, а о подспудной идее, что политические сообщества нуждаются в общих ценностях. Еще круче (так в тексте — прим. пер.): с этой точки зрения наднационализм — это всё еще национализм; нация, называющаяся «европейцы» — всё еще нация. А если национализм вызывает вопросы с точки зрения морали (а он, разумеется, вызывает, с точки зрения Бенда и тех, кто примеряет эти шаблоны для интеллектуалов), то интеллектуалы, разумеется, должны оставаться в стороне от этого и не участвовать в создании квазинациональных ценностей.
Но почему бы тогда не адаптировать модель Бенда в европейский контекст? Почему не сделать приоритетной миссией для интеллектуалов разоблачение несправедливости, не бросить в лицо известное J’accuse! (название статьи Эмиля Золя о процессе Дрейфуса прим. пер.) виновным и не рассказывать правду ориентированным на Брюссель державам? Проблема вот в чем: совершенно неясно, почему Европа, и, точнее, ЕС, должны являться подходящей площадкой для таких моральных вопросов. Подумайте об огромном спектре социально-экономического неравенства. Оно с очевидностью существует в Европе. Но внутриевропейское неравенство бледнеет на фоне общемирового. Глобальное неравенство — каждодневный скандал; внутриевропейское различие в доходах достойно серьезного социологического исследования и может даже стать причиной социального протеста, но оно просто неспособно стать причиной огромного морального возмущения.
Но как же, могут возразить, широко оплакиваемый «дефицит демократии» европейских институтов? И здесь мы подходим ближе к конкретной, хотя и кажущейся незначительной роли европейских интеллектуалов сегодня. Широко известно, что ЕС называют — в том числе глава Комиссии, не меньше — «неопознанным политическим объектом» (а если Жак Делор не может его опознать, то кто может?). Можно сказать напыщеннее: ЕС — самая значительная институционная инновация со времен создания современных демократических государств всеобщего благосостояния, но очень сложно понять его смысл и понять, как он на самом деле работает. Клубок сложных связей между европейскими национальными государствами и Брюсселем с трудом распутывается даже ключевыми игроками европейской политики, а вопросы его легитимности и того, как эта легитимность должна применяться к повседневной жизни европейцев, являются еще более сложными. И здесь интеллектуалы могли бы взять на себя очевидную роль тех, кого я называю «разъяснителями»: они могли бы найти себя в том, чтобы объяснить Европу своей аудитории и, что еще важнее, подчеркнуть правильный выбор в развитии ЕС в том виде, в котором мы его знаем, или, возможно, создать другую совместную политику (такую, как наднациональную демократию, в противоположность текущей ситуации, когда легитимность действиям ЕС придают акты национальных парламентов).
Некоторые могут найти это преуменьшенным видением того, что могут сделать интеллектуалы — разве не должны они стараться быть чем-то большим? В США, к примеру, не делают различий между понятиями «интеллектуалы» и понятием «общественные интеллектуалы» (под которым американцы имеют в виду ученых, которые могут объяснить что-либо образованной публике, т.е. другими словами, экспертов). Не совсем: тот факт, что интеллектуалы могли бы занимать описанную здесь роль, не стоит смешивать с тем, что французы с изрядной долей экспрессии называют vulgarization — они должны приводить правильные аргументы, но таким образом, чтобы граждане Европы могли прийти к самостоятельным моральным и политическим заключениям о том, что им делать с «неопознанной политической общностью». Проще говоря, разъяснение и общественное обсуждение должны идти рука об руку. Это в высшей степени демократическая роль: это не просто принуждение к восхищению каким-то особым видением (то, что иногда специалисты по общественному мнению ЕС иногда пытаются сделать, чаще всего с печально известными катастрофическими результатами — как в недавнем фильме о белой европейской супергероине, покоряющей различных варваров — азиатов, черных, арабов — превращая их в желтые звезды); скорее речь идет об объяснении вариантов и того, к чему они ведут с моральной точки зрения — оставляя право решать людям Европы.
Та самая реклама ЕС с белой супергероиней
Самый лучший пример такой работы — многих читателей это не удивит — труды Юргена Хабермаса, не только самого значимого интеллектуала Европы, но и, что важнее, интеллектуала, пытающегося в меру сил пытающегося осмыслить суть и потенциальное будущее ЕС. Можно считать некоторые суждения Хабермаса интеллектуально ограниченными по региональному признаку (Перри Андерсон недавно указал, что в последнем эссе Хабермас посвятил три четверти мнению германских авторов, остальное — англо-американским; видимо, остальная Европа интеллектуально не существует); можно критиковать Хабермаса за невнимательность к жизненному опыту современных европейцев со всего континента; кто-то может назвать его рецепты безнадежно идеалистичными — и всё же факт остается фактом: перед нами интеллектуал, который искренне пытается учиться у экспертов, чтобы объяснить, что он, правильно или ошибочно, считает достижениями, недостатками, а также нормативно-законодательный потенциалом для Союза, продвигая, тем самым, серьезный общественный диалог. Иначе говоря: можно не соглашаться с сутью того, что предлагает Хабермас, но всё же находить модель, которую он дал общению интеллектуалов с Европой, привлекательной.
Но речь идет не только о модели: существует еще одна роль для европейских интеллектуалов, которую принимали практически как данность, и которая сейчас находится на грани исчезновения. Как часто отмечалось, по меньшей мере до 1930-х годов существовала подлинная Европейская Республика Писем, в которой писатели и философы с легкостью общались друг с другом, минуя национальные границы, и в которой они объясняли своим читателям чужие иностранные культуры. Можно вспомнить экстраординарные отношения между Стефаном Цвейгом и Роменом Ролланом, или работу литераторов, таких как Эрнст Роберт Курциус. Всё это происходило на уровне «просто высокой культуры», которая могла бы быть утрачена, чего не произошло. И, хотя и в несколько ином ключе, это продолжилось после Второй Мировой войны, когда императив на примирение стал основополагающим. Подумайте о людях вроде Альфреда Гроссера и Йосефа Рована, которые объясняли немцев и французов друг другу. Они не были прославленными апологетами национальных особенностей, или посредниками меж двумя сторонами, которые бы тихо исчезли по окончанию примирения: они были в своем праве. Но, реально говоря, они выполнили сложнейшую роль культурных переводчиков и политических посредников.
А что теперь? Легко можно согласиться, что чем больше Европа интегрируется политически, законодательно и экономически, тем более провинциальным и замкнутым становятся составляющие её национальные государства в культурном смысле. Easyjet и конкурс Евровидения не заменят Республику Писем, где у интеллектуалов было подлинное понимание по меньшей мере двух или трех различных европейских культур. Есть, конечно, и исключения: если Вы читаете это, вы находитесь на крупнейшем веб-сайте, где европейцы могут узнать, какие дебаты происходят в других странах (и, что также важно, понять, какими интеллектуалы других стран воспринимают своих соседей (бедный Мюллер бы подавился, если бы узнал, какой сайт интересуется его трудами в России — прим. ред.).
Однако в деле формирования единой европейской политической сферы не существует панацеи. Можно лишь надеяться, что люди станут более любознательными, увидят для себя радость переводов и осмысления. Это может показаться банальным, однако это срочная задача, особенно сейчас, на критическом стыке эпох. Возьмем очевидный пример: германцам (и другим «северянам») необходимо понять историю гражданской войны в Греции, то, как греческое государство было использовано для умиротворения глубоко расколотого общества, и то, как европейские деньги были использованы для создания среднего класса, что помогло партиям удерживать власть, а также сильно снизило опасность новых конфликтов в обществе (ничто из этого не оправдывает коррупцию и в целом плохо функционирующее государство — tout comprendre ce n’est pas tout pardoner). И наоборот, наблюдателям за пределами Германии стоит уделить внимание тому особому ответвлению либерализма в экономике, которое определяет политику Бонна и Берлина уже долгое время: эта странная вещь называется Ordoliberalismus (от немецкого Ordnung — порядок, прим. пер.), чьи представители видят себя настоящими «неолибералами» — либералами, выучившими уроки Великой Депрессии и подъема диктатур в 20-м столетии, и которые не хотят смешивать либерализм и laissez-faire (вседозволенность). Для них так называемые неолибералы вроде Людвига фон Мизеса являются просто «палеолибералами», застрявшими в ортодоксальных учениях 19-го века о саморегулирующихся рынках. Германские неолибералы считают правильным иметь сильное государство, способное и желающее не только определять правила игры для рынков и общества, но и вмешиваться в них во имя блага или для гарантий конкуренции и «дисциплины».
И опять же, понимание таких идей — это не то же самое, что согласие с ними (Ordoliberalismus, к примеру, настораживает своей нелиберальной, возможно даже авторитарной стороной). Плюс в том, что более продуктивные и всесторонние обсуждения не могут игнорировать абсолютно разные начальные стартовые позиции разных наций как в политике, так и в экономике. В этом вопросе тем, кого я назвал «разъяснителями» и тем, кто объясняет национальные традиции, стоит работать вместе.
Но, можно возразить, разве разъяснение и объяснение — это все? Не станут ли тогда дебаты в Европе пересказыванием одной и той же точки зрения разъяснителями из разных стран? Есть еще (мы подойдем к этому позже) задачи, но эти две из них являются, так скажем, постоянными целями. Каждое поколение должно принять их для себя в новой форме; они не дают ответов на текущие проблемы, они лучше подготавливают людей к кризисам, особенно политическим кризисам.
Это приводит к моему последнему замечанию, оно относится к политического кризису, который касается всех: если Европейский Союз имеет одну политику, и если гражданство ЕС значит абсолютно всё, то у национальных государств-членов ЕС не остается своих внутренних дел, о которых другие европейцы не могли бы говорить и судить. А если в любой европейской стране демократия и торжество закона находится в опасности, то задача интеллектуалов Европы — поднять тревогу. Очевиден недавний случай в Венгрии, которая может стать первой страной-членом ЕС, которая подпадет под действие серьезных санкций ЕС за отступничество от либерализма.
Перед лицом суровой критики от Европарламента и Еврокомиссии венгерский премьер-министр Виктор Орбан создал образ транснационального заговора левых, возглавляемыми людьми вроде Даниэля Кон-Бендита, которых, предположительно, просто возмущают ценности, за которые выступают Орбан и его союзники: национальная гордость, христианство, традиционные взгляды на семью. Пытаясь начать Kulturkampf («Культурная борьба») внутри своей страны, Орбан, чувствующий себя как рыба в воде в конфликтах и поляризации — предложил разделить Европу на совершенно леволиберальную, предположительно включающую консервативные фигуры вроде Мануэля Баррозо (бывшего маоиста, кстати) с одной стороны, и, с другой стороны, ту Европу, которую венгерский премьер-министр недавно назвал «спрятанной» или «секретной» Европой — Европу, абсолютно поддерживающую ценности его партии, но не осмеливающуюся их озвучивать.
Венгерский взгляд на мир
Есть искушение рассматривать такое противостояние как чрезвычайно желаемое, даже если совершенно не соглашаться ни с чем из того, что говорит Орбан: разве не может это быть маленькой хитростью в европейской истории интеграции, когда транснациональный конфликт послужил делу дальнейшего объединения Европы? Разве политизация и даже поляризация не хороши сами по себе, заставляя энергичнее работать структуры вроде Европарламента, заставляя интеллектуалов с обеих сторон влезать в борьбу, и даже вынуждая рядовых европейцев уделять ситуации внимание?
Такое видение может быть немного излишне диалектичным: в конце концов, на повестке дня есть срочные вопросы, а любой страдающий сегодня венгр не удовлетворится долгосрочными выгодами высоких идеалов европейского единства. Лучшее понимание этих ценностей и, в итоге, более глубокое их укоренение могут быть побочным продуктом, но не главной задачей битвы за столь важные европейские ценности; возложенная на европейских интеллектуалов задача — объяснить, к примеру, почему какое-либо конкретное разделяемое в Европе понимание законодательной практики не может быть партийной атакой на универсальные ценности, от которых можно было бы отклоняться во имя «разнообразия» и «плюрализма».
Это интеллектуальное сражение осложнил тот факт, что на волне провала Конституционного Договора европейские политические элиты нашли свои способы подчеркнуть, что Европейский Союз важнее разнообразия и своего пути к демократии и национальному счастью отдельных государств-членов — другими словами, в какой-то мере безответственная риторика, нацеленная на смягчение страхов перед «Европейским супер-государством», дала фактический карт-бланш людям вроде Орбана. Последний, в конце концов, защищая себя, заявил, что его новая конституция уникально соотносится с традициями страны и вызовами сегодняшнего дня.
Разнообразие и плюрализм — не ценности вроде свободы и демократии: всё зависит от ответа на вопрос: «плюрализм к чему?». Если интеллектуалы намерены защищать свободу и демократию — так и должно быть; в случаях же, когда угрозы свободе и демократии нет, они должны приступить к задаче «разъяснения» и «объяснения». Говоря фразой Эмиля Золя, человека, который сделал термин «интеллектуал» распространенным в Европе конца 19-го века: Allons travailler! («За дело!» — прим. пер.)
Оригинал текста.