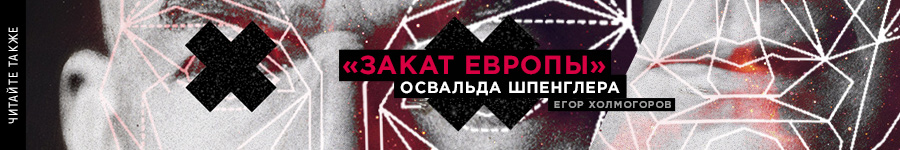Агрегаторы новостей на интернет-ресурсах — жутковатое изобретение современной цивилизации. Это фрейдовская жуть — ощущение, которое охватывает человека, когда он вдруг обнаруживает в чём-то давно понятном и знакомом что-то неизвестное и неясное, ещё не открытое. Точно так же и лента «Яндекс.Новостей» давно стала олицетворением нашей обыденности, её экспортёром. Любой, даже самый горячий инфоповод, попадающий в такую новостную ленту, по определению не может вызывать по-настоящему яркого эмоционального отклика. Разве можно чему-то удивляться, читая газету за завтраком? А ведь между таким чтением и знакомством с первым за день заголовком на Google.News нет никакой сущностной разницы. Гегель уподоблял чтение газеты за завтраком утренней молитве, а когда диалог с Богом превращается из библейского Откровения в часть обыденности, он неотвратимо теряет в накале страстей.
Такая новостная лента делает невозможное, трансформируя вполне реальные события в череду однострочных заголовков, сшивая в одно монотонно-серое и одновременно пёстрое полотно войну на Украине, референдум в Греции, саммит БРИКС, казнь пленных асадовцев в древней Пальмире и просьбу Минска об очередном кредите, адресованную Москве. Такой новостной джанк-фуд, не предполагающий глубокой аналитики или продолжительной рефлексии, отвечает если не требованиям, то условиям нашей эпохи. Но какой эпохи?
Современность всегда сложно определить — именно в силу её современности. Совершенно точно можно сказать только то, что это эпоха человека, у которого не вызывают удивления вести о разнообразных катаклизмах, зверствах и практически индустриализованном насилии, который знаком с гипотезой технологической сингулярности, которая обещает, что он перестанет удивляться и открытиям в науке — просто потому, что не сможет за ними уследить. Эта потеря удивления — основополагающая черта нашего времени. В философии и социальных науках ситуация, в которой такая потеря стала возможной, получила название постсекулярности — закономерного конца многовекового проекта Просвещения, ставшего одной из причин формирования привычной нам западной цивилизации.
«Постсекулярность» — достаточно молодое слово. Сложно сказать, кто изобрёл его или употребил его первым: оно стало ходовым в Академии в девяностых годах и изначально не заявляло собой самостоятельную проблему. Оно обозначало одну из частей более широкой картины — кризиса европейской идентичности и наступления мира постмодерна. Лингвистическая игра проста: «постсекулярность» — это ситуация, возникающая после секулярности, после успешного или неуспешного итога попытки разграничить религию и политическую власть, общественную жизнь, науку и прочее. Это время, в которое рациональному типу мышления западной цивилизации вдруг открывается страшная правда — оно никогда не было по-настоящему рациональным. Рациональность Просвещения, самого амбициозного проекта западной цивилизации, раньше подразумевала монотонность абсолютной власти Разума — по мнению теоретиков Просвещения, расходившихся практически во всём, кроме этой принципиальной для них посылки, Разум был способен обуздать Природу, охватив собой всё сущее. Подчинить и «расколдовать», выявив законы, по которым та работает. Как об этом говорит Бэкон в своём In Praise of Knowledge:
Сегодня мы властвуем над природой только в нашем мнении, будучи в действительности порабощены ею; однако если бы мы позволили ей управлять нами в наших изобретениях, на практике мы стали бы повелевать ею.
Иными словами, речь идёт о том, чтобы вывести на свет любимого тем же Фрейдом ratio и Природу, и Человека, заключив между ними союз. Это — одна из первых попыток осмысления техники в привычном нам смысле — отличной и от Природы, и от Человека сущности, работающей по разгаданным учёными законам с помощью сил воды и камня.
Эта новорождённая сущность оказалась крайне амбициозна — в своём стремлении охватить весь мир и продолжить тавтологичный процесс научного объяснения она не видит границ. Возникают колониальные империи, «Бремя Белых» становится примером насильственного импорта модерна. Более слабые цивилизации, к тому моменту не открывшие для себя технику, ставятся перед выбором: принять Бремя добровольно или насильственно. Мир вестернизуется — в конце концов даже консервативная Япония, пройдя через войну Босин к Реставрацию Мэйдзи, примеряет мундиры западного образца и сбривает самурайские пучки.
Лейтмотив эпохи Нового времени — форматирование мира на западный манер и по западным образцам. Одной из принципиально важных для такой культурной экспансии черт западного общества оказалась секуляризация — многоплановый общественный процесс, связавший воедино культуру, политику, экономику, укрепление и смерть монархической власти, а также усиление и одновременно ослабление организованной религии.

Постсекулярность — как раз про то, к чему в итоге этот процесс пришёл. Про то, что секуляризация (в широком смысле) где-то пошла не по плану, породив ряд системных ошибок, которые привели нас туда, где мы находимся сейчас. Впрочем, необязательно считать эти итоги ошибками — то, что Просвещение в конечном счёте забрело немного не туда, куда его предполагали завести его «отцы», говорит только об ограниченности способностей человека к предсказанию будущего.
Сам термин «секуляризм» в смысле отделения общественной жизни от религиозной был впервые использован левым британским писателем Джорджем Джейкобом Хольоэйком в его «Началах и Природе Секуляризма». Биография Джорджа достаточно примечательна: этот человек родился в Бирмингеме в 1817 году, когда положение социалистов в викторианской Великобритании во многом напоминало положение русских националистов в современной России. Рождённый в семье кузнеца, он обучается в домашней школе и в возрасте восемнадцати лет начинает посещать Бирмингемский Институт Механики в качестве слушателя, а затем и вспомогательного лектора. Именно тогда Хольоэйк испытывает мощное влияние социалистических идей Роберта Оуэна, а затем, чуть позже, и взглядов Огюста Конта, одного из «отцов социологии», на религию. Конт — родоначальник позитивизма, в своё время и сам пытался создать религиозную систему, из которой был бы исключён Бог. Согласно позитивизму, который в своё время предложил основу для первого по-настоящему научного мировоззрения (если понимать под наукой тот комплекс практик и социальных институтов, возникший в Новое время в лабораториях и университетах), в корне религии и науки лежит одно и то же стремление человека — желание получить непротиворечивые ответы на вопросы о мироздании. Это стремление «развенчивать тайны», «расколдовывать» реальность — тотально. Оно управляет человеком в его попытках создать для себя устойчивую модель личности и сформировать мировоззрение.
Человек премодерна и человек Просвещения с этой точки зрения различаются только информированностью. Первый не обладает комплексом знаний, который бы позволил ему объяснить природные явления и катаклизмы, не привлекая в свою картину мира сверхъестественных по своей природе агентов, и в его мире появляются боги и мифологические существа. Человек модерна же знает, что существует непротиворечивое научное знание о мире, не требующее введения в картину мира Зевса для объяснения явления молнии или Танатоса для объяснения смерти. Что более важно, он знает, как это знание получить — через целую череду научных практик, обещающих ему картину объективной реальности. Таким образом, с точки зрения Конта, вполне реально исключить из религии иррациональную компоненту и инкорпорировать ей «гуманизм без Бога».

Что интересно, в данном случае дело не ограничилось словами, и Конт представил на суд публики «Катехизис позитивной религии» — сборник указаний к воплощению в жизнь так называемой Религии Человечества, традиционной по своей форме (она предполагала существование жрецов, храмов и чтение молитв), но очищенной от любого сверхъестественного содержания. «Катехизис» подразумевал три основных добродетели позитивиста: Порядок, Альтруизм и Стремление к прогрессу. В своей поздней форме Религия Человечества включала в том числе и семь позитивистских таинств, таких как Выбор профессии или Женитьба. Чуть ранее Конт также предлагал реформировать календарь, изменив названия месяцев в соответствии с именами великих людей, таких как Гомер, Карл Великий и Аристотель.
Если рассматривать это как пример развития рационального мировоззрения Просвещения, можно разглядеть в «Религии Человечества» доведённое почти до предела убеждение, что любая иррациональность мира поддаётся «расколдовыванию» и развенчанию. Впрочем, несмотря на изначально рациональное содержание, проект Конта по тем или иным причинам так и не отказался от идеи традиционной обрядовости — храмов, жрецов, молитв и такой формы повседневной веры, как следование календарю. Это можно объяснить тем, что Конт хотел сохранить в своей религии компенсаторную функцию — когда ещё человек испытывает большее облегчение, чем во время молитвенного экстаза, слияния с толпой, пришедшей в храм для того, чтобы воздать почести своим богам?
С другой стороны, такая картина религии противоречит сама себе. В сущности своей исполненная рациональности, она продолжает использовать инструментарий жрецов и проповедников, и убеждение Конта, согласно которому для торжества Разума достаточно изъять из традиционной религии сверхъестественное ядро — симптоматично. Это можно назвать самонадеянностью Просвещения, уверенностью в том, что мир во всей своей полноте поддаётся объяснению в непротиворечивых терминах.
За это сейчас и ругают позитивизм. За убеждённость в том, что не только в науке, но и в повседневной жизни человек должен руководствоваться исключительно логическими законами, помноженными на sense data, полученные из органов восприятия. Это мощная мировоззренческая позиция, правда, упускающая то обстоятельство, что Просвещение через психоанализ само в конце концов доказало, что человек — существо сугубо иррациональное, часто не отдающее себе отчёта в собственных действиях. Впрочем, об этом позже.
Испытавший влияние идей Конта Хольоэйк становится убеждённым атеистом, из-за чего его на время отстраняют от преподавательской деятельности и заключают в тюрьму. Здесь он изобретает новый термин для обозначения своего мировоззрения — вместо «атеиста» он начинает называть себя «секуляристом».
Новорождённый термин был призван обобщить и обозначить то, что веками ранее многие поколения скептиков и мыслителей пытались сформулировать в виде «только человеческой» этики:
Секуляризм — кодекс чести, относящийся к этой жизни и основанный на соображениях исключительно мирских, направленный главным образом на тех, кто находит теологию неточной или ненадёжной, кто видит в ней то, на что нельзя положиться и во что нельзя поверить. Его основные принципы таковы:
1.Улучшение этой жизни материальными средствами.
2.Наука — доступное человеку Провидение.
3.Быть хорошим — благо.
Есть другие блага или нет, блага этой жизни — всё равно блага, и пытаться достичь их — хорошо.
Это не атеистическая этика. В этих строках Хольоэйк проводит границу между «этой жизнью» — мирской жизнью, блага которой может уже сейчас осознать и ощутить каждый — и другой реальностью, находящейся теперь уже в зоне неопределённости. Он не отрицает божественное Провидение — это слово является ключевым в его втором тезисе — но он говорит также о том, что наука, а не организованная религия является доступным человеку способом открыть истинные законы реальности. С этой точки зрения он является по-настоящему секулярным человеком Просвещения — в его мировоззрении именно учёные становятся жрецами Нового мира, мира, который может быть «расколдован» и поставлен на службу человеку.
Это уже гораздо более мощная позиция, чем «Религия Человечества» Конта. В корне этики секуляризма Хольоэйка лежит убеждение, что для поддержания разумной, наполненной смыслом альтруистичной жизни не нужны религиозные практики, не нужен институт секулярного жречества и совершенно неважно, читает этот человек секулярные молитвы или нет. Такая мировоззренческая позиция коренится в глубокой внутренней убеждённости, что для того, чтобы быть моральным человеком, не нужен Бог. Быть может, он и есть, но Бог — это вопрос «другого» мира, его нельзя верифицировать или измерить с помощью научного оборудования. Именно поэтому он должен быть отброшен как источник любых этических ценностей — его место должен занять Человек. Более того — не просто человек, а Человек Мыслящий, учёный, который благодаря самой природе своего занятия обладает привилегированным правом на знание о реальности.

Позиция эта становится краеугольным камнем мировоззрения Нового времени — идеи упорядочивания сущего только человеческими средствами, без привлечения в это уравнение Бога или иных сверхъестественных сущностей. Такой рациональный порыв после своего рождения живёт ещё около полутора веков — пока противники подобной риторики, пусть весьма эффективной в эмпирике, но оставляющей множество лакун и белых пятен в общей картине мира, не набирают достаточный риторический потенциал для того, чтобы оказать сциентистам — так теперь называют людей, «онаучивающих» всё мироздание — отпор.
Это движение — хотя слово «движение» в данном случае очень быстро оказывается нерелевантным — в разные времена носило разные имена. Писатели Потерянного поколения, постмодернисты, постструктуралисты, люди, стоящие у истоков литературного фэнтези — к примеру, Лавкрафт — все они, в качестве одного из своих основных, заявляют один и тот же тезис:
Мир сложен, страшен и с трудом поддаётся объяснению. Он огромен и человек в первую очередь задаётся не вопросом о том, какова его истинная природа. Его интересует, как справиться с ужасом жизни.
Такая пессимистичная риторика достаточно явно проявилась в начале двадцатого века в творчестве одного болезненного молодого человека, так и не дожившего до пятидесяти лет. Говард Филлипс Лавкрафт, один из первых представителей жанра «фэнтези» в литературе, родился в 1890 году, в Род-Айленде, США. Когда Говарду было три года от роду, его отец, Уинфилд Скотт Лавкрафт, был заключён в психиатрическую лечебницу Батлер из-за психических расстройств. Он остался там до самой своей смерти в состоянии физического и ментального истощения в 1898 году. После этого Говард воспитывался главным образом матерью, двумя тётями и дедом, большим любителем историй в жанре Gothic horror. Лавкрафт был болезненным ребёнком, которого мучили ночные кошмары — считается, что большая часть его работ была вдохновлена именно этими снами, в которых ему являлись «ночные мверзи», дьяволоподобные существа с перепончатыми крыльями, лишённые лиц.
Лавкрафт, так и не получивший законченного образования — сам он заявлял о «нервном истощении», его современники же предполагали, что это произошло из-за слабости в высшей математике — родился в переломную для Европы эпоху. Его книги были посвящены страхам — и страхам совершенно разнообразным. Миф Ктулху — глубоко проработанная литературная вселенная, которой дал начало именно Лавкрафт, содержала в себе огромное количество разнообразных, но неизменно чуждых человеку сущностей. Именно Лавкрафта можно благодарить за введение в «хоррор» одного из самых эффективных способов испугать человека — постоянного ощущения неизвестности.
Неизвестность в книгах Лавкрафта тотальна. И именно эта неизвестность, метафорически представленная Йог-Сототом, Ньярлатотепом, Ктулху и прочими, позволяет осмыслить катастрофу, постигшую Европу в двадцатом веке.
В основе всех моих историй лежит одна фундаментальная предпосылка — все обыденные законы, интересы и эмоции людей не имеют никакого влияния или значения в сравнении с величием и беспредельностью космоса. Для меня нет ничего кроме глупости в мысли, что человеческие страсти, состояния и стандарты применимы к другим мирам или другим вселенным. Чтобы достичь сущности настоящей беспредельности, вне времени, космоса или физических измерений, нужно забыть о том, что такие вещи, как органическая жизнь, добро и зло, любовь и ненависть, как временное и хрупкое человечество, вообще существуют. Только персонажи-люди должны обладать человеческими качествами. Это должно стать основой настоящего реализма, но когда мы пересекаем черту, отделяющую нас от безграничного и вечно прячущегося неизвестного — скрывающего в тенях Внешнего — мы должны помнить, что должны оставить за этой чертой и нашу человечность.
— Г.Ф. Лавкрафт в своей заметке к редактору «The Weird Tales».
Лавкрафт был первой ласточкой нарастающего ужаса двадцатого века — ужаса перед бесчеловечным торжеством технической цивилизации, породившей сначала Первую, а затем и Вторую мировые войны. Это ощущение страха представляло собой ощущение потерянности человека в беспредельном и крайне опасном мире. Это стало проблемой сразу нескольких поколений Европы, живших в ней в первой половине двадцатого века.

Интеллектуалы этих поколений работали с этой проблемой с помощью того инструментария, который они имели: Хэмингуэй и Ремарк посвятили большую часть своих произведений именно Первой и Второй мировым войнам, а также временному промежутку между ними, Сартр и Камю пытались найти безболезненный способ существования человека в изменившемся мире, в, к примеру, статье «Экзистенциализм — это гуманизм» и «Мифе о Сизифе». Психоанализ пытался осмыслить произошедшую во Второй мировой бойню в юнговской «Проблеме души современного человека». Именно в этом тексте Юнг пишет:
У нас уже нет той метафизической уверенности средневекового человека, мы променяли ее на идеал материальной уверенности, всеобщего благоденствия и туманности. Для кого этот идеал сегодня по-прежнему незыблем, тот располагает большей, чем у других, степенью оптимизма. Но и эта уверенность тоже превратилась в ничто, так как современный человек начинает видеть, что всякий прогресс вовне создает также и постоянно возрастающую возможность еще большей катастрофы. Перед нею в ужасе отшатываются любые фантазии и ожидания. Что, к примеру, может означать тот факт, когда уже сегодня в огромных городах планируются или даже проводятся занятия по защите от газовых атак? Это означает только одно: эти газовые атаки — по принципу «Si vis pacem, para bellum» — уже планируются и готовятся. Нужно накопить лишь соответствующий материал, а им уж точно завладеет бесовское в человеке и будет маршировать с ним вместе. Ружья, как известно, стреляют сами собой, стоит только собрать их в достаточном количестве.
Это ощущение, пусть и мельком, схватывает Шпенглер в своём «Закате Европы» — цивилизационное превращение западной культуры в цивилизацию означает отказ от культа молодости и греческого агона — духа соревнования.
Война в это время перестаёт восприниматься как забава и достаточно рядовое продолжение политики средствами ружей и пушек. Начинается эпоха войн на уничтожение — и этот период, как и любой период взросления, крайне травматичен для массового сознания. Подобное столкновение с изменившейся действительностью заставляет западного человека искать различные способы утешения, примирения с действительностью:
И подобно тому, как во мне, отдельном человеке, темное взывает к готовому прийти на помощь светлому, то же самое происходит и в душевной жизни народа. Темная, безымянная толпа людей, сея разрушения, стекавшаяся к Нотр-Даму, распоряжалась также и отдельным человеком: она-то и поразила Анкетиля дю Перрона, спровоцировав в нем ответ, ставший всемирно-историческим. От него берут начало Шопенгауэр и Ницше, от него же исходит по-прежнему необозримое духовное влияние Востока. Поостережемся недооценивать это влияние! Хотя оно почти незаметно на интеллектуальной поверхности Европы — несколько профессоров философии, несколько человек, увлекающихся буддизмом, несколько мрачных знаменитостей, вроде мадам Блаватской и Анни Безант с ее Кришнамурти. Как будто это лишь отдельные островки, возвышающиеся над морем толпы, но в действительности это вершины огромных горных цепей душевной подпочвы. Образованный обыватель еще совсем недавно полагал: с астрологией давно уже покончено и над нею можно только посмеяться, но сегодня она, поднявшись снизу, стоит прямо перед воротами университетов, из которых была изгнана лет триста тому назад. То же самое касается идей Востока, они захватывают массу снизу и постепенно прорастают на поверхность. Откуда взялись пять или шесть миллионов швейцарских франков для антропософского храма в Дорнахе? Уж точно это не дар одиночки. К сожалению, пока еще нет статистики, которая бы точно установила, сколько на свете явных и скрытых теософов. Несомненно одно, что их число достигает многих миллионов. К ним можно добавить еще несколько миллионов спиритов христианского и теософского толка.
Всё тот же Юнг. Здесь он описывает уже начавшийся поиск человеком нового типа духовности. Именно в этот промежуток времени среди европейских интеллектуалов становятся модными буддизм, зороастризм и прочие формы восточной духовности, которые отличаются от привычного Западу христианства одной важной чертой — они дают человеку ответ на вопрос, что именно ему нужно делать уже в этой жизни, чтобы остаться счастливым.
Западный мир приходит к чёткому убеждению, что чисто научное мировоззрение, что парадоксально, не может дать ответы на все мировоззренческие вопросы, несмотря на то, что стремится объяснить все явления мира. Невозможно (по крайней мере, пока) найти научное решение проблем этики, религии, отношения к смерти и любви. Наука и во многом философия в конце концов уходят из этих областей, оставляя их на откуп внутреннего мира конкретного индивида. Звучат заявления о «смерти философии», Делёз и Лиотар в своих последних текстах призывают в союзники кино и литературу, таким образом констатируя, что как таковая «чистая» философия уже невозможна — ей необходима подпорка в виде чего-то, на примере чего можно философствовать.

Происходит разочарование в проекте секуляризации: религия на правах нормативного советника возвращается в информационное поле. Такое происходит с христианством, возвращающим себе статус легитимной политической и общественной силы, с Ближнего Востока в медиа вторгаются радикальные исламисты, Рамзан Кадыров, существующий во многом в рамках традиционной племенной структуры Чечни, заводит аккаунт в Instagram. Выясняется, что в мире существует огромное количество традиционных по своей природе агентов, имеющих большое влияние в и не желающих секуляризироваться. Граница, веками ранее проведённая Хольоэйком между этой жизнью и иным миром, оказывается нарушена.
В конце концов в публичное поле приходит Юрген Хабермас, который обозначает сложившуюся ситуацию как «постсекулярность». Вместе с этим Хабермас задаёт вопрос, который, по его мнению, должен стать одним из основных для современных европейских интеллектуалов:
Как секулярному европейскому обществу, привыкшему к существованию в условиях границы между религией и обществом, взаимодействовать с изменившимся, опасным миром, в котором соседствуют ИГИЛ и лазерные принтеры, боевые дроны и мощные общественные движения христиан? Нужно ли блюсти проведённую Хольоэйком границу или отказаться от неё, начав ответное наступление в те области, от экспансии в которые Европа давно отказалась?
Конец первой части