Первый после Пушкина
Лев Пирогов, легендарный мужчина, про Николая Носова — Пушкина для детей
детским писателям принято относиться хоть порою и пылко, но снисходительно. Как к дорогой сердцу безделушке. Когда со дня рождения Николая Николаевича Носова исполнилось 100 лет, «Литературная газета» обошлась заметкой в несколько строчек. А в этом издании очень бережно относятся к юбилеям. Лишнего не отмерят. А что разные другие газеты понапечатали статей, ну так они и котиков, и девок неодетых печатают. Ути-пути, «все мы родом из детства», потакание обывателю.
Между тем из детства родом действительно все. Поведенческие «паттерны» вшиваются в подсознание в три-пять лет, мировоззренческие — в семь-восемь. Детский писатель (даже если мы толком не помним ни его имени, ни содержания полюбившейся в детстве книжки) оказывает гораздо более сильное влияние на судьбу человека, чем считающийся любимым и перечитываемый каждый год «взрослый».
Не исключено, что русского человека делают русским три вещи: «Курочка Ряба», «Колобок» и «Сказка про Репку». Или вот Пушкину няня сказки рассказывала. Когда на эту почву легли прочитанные им французские романы, получилась русская национальная литература. Сама бы няня, понятно, национальной литературы не создала. Но и Пушкин бы без неё национальной литературы не создал, вот в чём загвоздка.
Ладно, со значением детской литературы в общих чертах понятно. Но почему же именно Носов?
Потому что он учитель мужества, воспитатель русских мальчиков.
Это, конечно, странно звучит. Ладно бы Гайдар, ладно Владислав Крапивин — шпаги и бригантины. Но Носов, «Живая шляпа»? С чего бы?
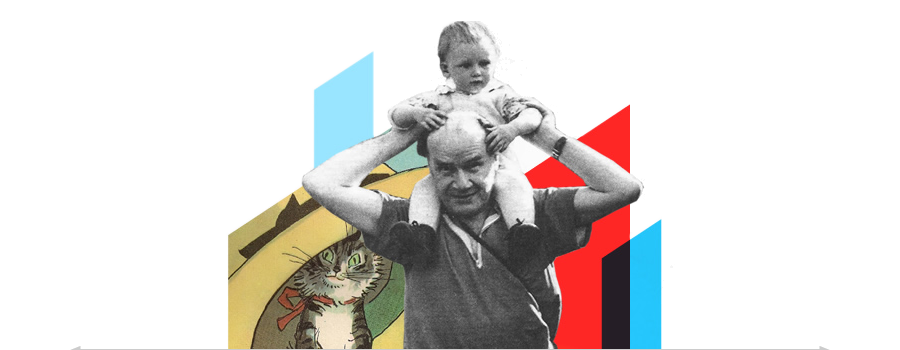
Скажем так. Вы, наверное, замечали, что в русской речи окончательно и бесповоротно утвердились вопросительные интонации. Причём не где-нибудь, а на месте повелительных. Особенно это заметно в милицейских телесериалах, где актёрам по сюжету полагается много командовать. «Сюда иди?» «Рот закрой?» Будто не приказывают, а разрешения просят. «Я вот тут велю тебе закрыть рот, ничего?» Речь меняется сообразно тому, как меняется сознание носителей языка. И наше сознание, судя по всему, меняется в какую-то странную, мнущуюся с ноги на ногу сторону.
Когда это началось? Уже «крапивинские мальчики» были чересчур чувствительными, ранимыми, нежными. Их готовность к подвигу и самопожертвованию была готовностью к экстатическому поступку, к аффекту, к адреналиновому выплеску. У женщин мы это называем «истерикой». Неслучайно некоторые умники заподозрили у Крапивина «педофилию». Десексуализация советских мужчин в художественной культуре 60-70-х годов шла полным ходом и достигла апогея в любимом многими фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих»: как там рубаки-наши через заплаканное дождём стекло облизываются, куда твоей «Горбатой горе».
Высокая женственность «крапивинских мальчиков» была, естественно, не сексуального характера, она была, так сказать, социальной. Неслучайно у многих воспитанников крапивинского клуба «Каравелла» возникали проблемы с «социализацией», то бишь с вхождением во взрослую жизнь. Им она казалась слишком подлой и низкой, несправедливой, «некрасивой», «неправильной», и они ломались. А с мужчинами так быть не должно.
Где-то я читал, что секрет «терции» — знаменитого боевого построения испанской пехоты, подвигами которой мы наслаждались в финале фильма «Капитан Алатристе», — заключался, среди прочего, в следующем: это был монотонный изнурительный труд, требовавший от пехотинца всех его сил и всего внимания, так что на «переживания» (например, на страх, боязнь готового вонзиться в тебя железа) сил просто не оставалось. Так это или не так, но некоторым образом соотносится с рассказами ветеранов нашей Войны: мол, боевые столкновения — это десять процентов, а на девяносто процентов война — это изнурительная работа: пушку окопай, раскопай, да толкай по грязи, лошади могут встать или пасть, а человек нет.
Между тем официальное советское патриотическое воспитание (то, которое помню я, в семидесятые-восьмидесятые годы) было целиком построено на культе подвига. Подвиги пионеров-героев, подвиги Гастелло и Александра Матросова, сочинения на тему «В жизни всегда есть место подвигу» и так далее. Представления о войне как изнурительной работе у мальчиков и подростков не было, это было не героично, не романтично. А парадокс в том, что на подвиг — выплеск, импульс — может оказаться способен и слабый человек. Терпеть, стиснув зубы, труднее. Но нам об этом не рассказывали: терпение не вознаграждается ни славой, ни смертью.

Было как-то не очень понятно на этом фоне, почему победу в Войне «одержал народ». Это казалось пустой риторикой. Ведь «народ» — это что-то совершенно серое, безликое и не героическое. Победу одержали те, кто колол штыком, бросал горящий самолёт на вражескую колонну и закрывал грудью амбразуру. Это было понятно. А про народ — нет.
Ещё нам говорили, что народ «много вытерпел», но и это мы понимали по-своему. Вытерпел — значит снёс много унижений, притеснений, жестокостей. «Терпеть» означало «сносить». Понятие спортивного и боевого победного терпения нам было плохо знакомо. А уж о трудовом терпении мы и слушать не захотели бы. Скучно. Душа просила романтизма, подвига. Только почему-то выросло из нас в итоге поколение брокеров товарно-сырьевых бирж.
Замечательный Аркадий Гайдар, один из создателей уникального явления советской детской литературы, чья жизнь была связана и с подвигом, и с терпением (например, половину жизни он прожил, терпя сильную боль), был основоположником героико-романтического направления в детской литературе. «Вставай, барабанщик!» (Правда, в Википедии основателем этого направления считается почему-то тоже замечательный, но живший позже на 30 лет Юрий Яковлев. Убей не знаю, почему. Не вижу причин вдруг позабыть Гайдара. Ну не потому же, что он не еврей?)
Ну так вот, а героико-романтическое мировоззрение при всей его приятности и красоте чревато капризным отношением к жизни, как мы уже выяснили. От гайдаровских героев произошли герои Яковлева и Крапивина, от тех — герои Алексина, а это уже практически демшиза. (Нечто подобное случилось в роду самого Гайдара: сын — морской капитан, контр-адмирал, бригантина, а внук — икона стиля жены Чубайса)
Мужской характер поверяется не подвигом. Подвиг — это то, что «сверх», за рамками «человеческого». А мужским характером называется способность к терпению, преодолению и пониманию, «как всё устроено». Мужская твёрдость, уверенность (в том числе интонационная, о которой мы говорили вначале) происходит от знания — «что будет, если я это скажу или так поступлю», а такое знание, в свою очередь, происходит от знания «как всё устроено». Не как «должно быть» устроено по нашим представлениям о справедливости, а как есть. Разница между знанием и «знанием, как надо» огромна.
Вспомним о таком качестве Николая Носова, как занудство. Как начнёт что-нибудь объяснять, как что-нибудь устроено или работает, и нудит, нудит… Все эти бесконечные описания труболётов и винтоходов в «Солнечном городе»… Дело в том, что Носов очень любил технику. Увлекался радиолюбительством, химией, фотографией. Последнее увлечение привело его в институт кинематографии. В годы войны Носов занимался режиссурой учебных военно-технических фильмов. Однажды ему поручили снять фильм об английском танке «Черчилль». Английский инструктор показал механику-водителю, как управлять танком, и уехал, а у того вдруг дело не заладилось. Танк выписывал по съёмочному полигону круги и никак не хотел слушаться. Тогда Носов залез в кабину, разобрался и объяснил танкисту его ошибку… Раньше он снимал фильмы о тракторах — опыт был.
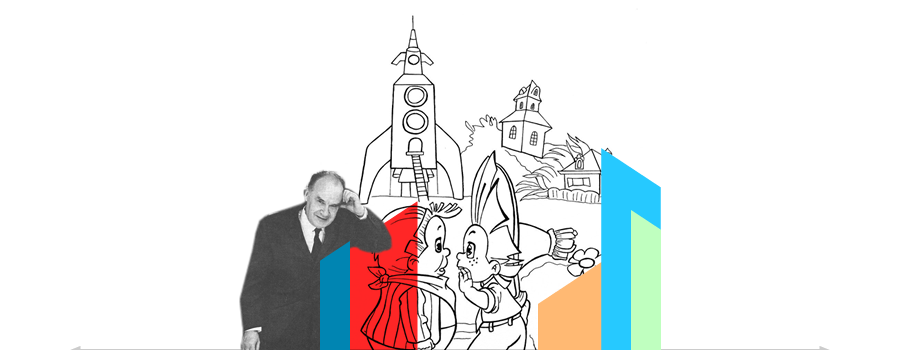
Для повести «Дневник Коли Синицына» Носов кропотливо изучал литературу по пчеловодству и долго посещал пасеку. Процесс выращивания цыплят в «Весёлой семейке» расписан досконально, включая возможные ошибки. Приступая к «Незнайке на Луне», на всякий случай изучил работы Циолковского — зачем? Зануда…
Сегодня мы удивляемся: ишь, как он в «Незнайке на Луне» всё правильно предсказал! Уж не потому ли так вышло, что наш российский капитализм по носовским лекалам построен? Молодые-то реформаторы все «Незнайку» читали!.. А того и не приходит в голову, что наоборот дело было: не капитализм по «Незнайке» сделан, а просто автор «Незнайки» не поленился досконально этот самый капитализм изучить — и понять! — по книжкам. До мелочей. Меня как эстетика восхищает его остроумная и в то же время поразительно меткая трактовка «современного искусства»:
Воистину.
Подставьте на место той полувековой давности абстрактной картины нынешнюю «информационную картину события» — получите то же самое. Вроде бы всего на ней много: и загогулинок, и крючочков, а ясности в голове нет. Важно, чтобы «бедняк» (обыватель) чувствовал, что его «обслуживают», испытывал чувство информационной сытости, а вот понимания происходящих процессов не нужно. На то он и обыватель, чтоб довольствоваться эмоциями и потреблять что дают.
У классики вообще есть такая особенность: она в любое время воспринимается современно. Потому что затрагивает основы человечьего бытия, которые неизменны. Когда, например, происходит действие рассказа «Мишкина каша»? Вроде бы неважно когда. В детстве!
А между тем — важно.
Чем заняты в рассказе Коля и Мишка? Тем же, чем и все остальные дети в то время. Хотят есть. Ведь рассказ-то был опубликован в 1945 году… Правда, у Коли с Мишкой, в отличие от большинства тогдашних детей, всё-таки есть продукты.
Такая «лакировка действительности». Но она позволяет читать рассказ о том, как варить кашу и выпутываться своими силами из затруднительных ситуаций и через пятьдесят лет. Если бы это был реалистический рассказ о послевоенном голоде, он уже завяз бы в своём времени, воспринимался бы как нечто историческое, музейное.
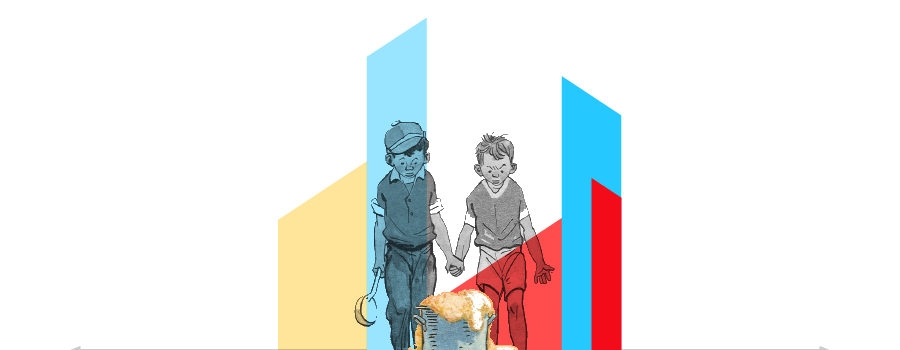
Пап у Мишки и Коли покамест нет. Есть мамы и тётя Даша. Вопрос с папами будет решён положительно в «Весёлой семейке». Положительно, но формально: мелькнут пару раз, скажут пару фраз косвенно-прямой речью — и всё. У носовских детей проблема с папами. Воспитывают их матери. Могут, например, запретить брать керосиновую лампу для инкубатора. Могут сказать страшные слова: «Пусть лучше у меня совсем не будет сына, чем будет сын вор» (рассказ «Огурцы»). А вместо пап — всё какие-то «дяденьки»: милиционеры, управдомы, стекольщики…
Критик Александр Архангельский усмотрел в этом носовском литературном сиротстве особенность русского национального характера. Взгляните, дескать, какая полная счастливая семья в рассказах Драгунского. А у Носова дети предоставлены сами себе! Это оттого, что Драгунский — еврей, а евреи — хорошие семьянины. Архангельскому заочно возразил Вадим Нестеров: когда эти рассказы писались, отцов у большинства детей действительно не было. Они на войне погибли. Вот и не хотел Носов растравлять своим читателям душу.
Возражение хорошее и правильное, но, думается, дело не только в этом. Есть в носовской безотцовщине ещё одна закавыка, связанная и с личной судьбой, и с тем, что называется «творческим методом». Считается, что в первом произведении писателя, как в эпиграфе, зашифрован смысл всего последующего творчества. Как в яблочном зёрнышке спрятано уже целое дерево. Первый рассказ Носова «Затейники» увидел свет до войны, в 1938 году, и никакого отца в нём уже нет. «Мама ушла в магазин», — а про отца ничего.
У самого Носова, судя по автобиографической повести «Тайна на дне колодца», отношения с отцом складывались непросто. Коля очень любил отца, но и очень остро переживал его, скажем так, неидеальность. Тот был человеком «лёгким» и легкомысленным — полной противоположностью серьёзному, трудолюбивому Коле. Думается, что незаметность, «заретушированность» отцов в носовских рассказах — это такой педагогический приём. Отчасти порождённый личным опытом (нельзя было писать папу «с натуры», хотелось быть не таким, как родной отец, не таким, какими часто бывают отцы, — со слабостями и недостатками), отчасти — временем, в которое рассказы писались. В эпоху, когда отцов действительно не хватало (мужские утвердительные интонации начали уходить из речи именно воспитываемых матерями послевоенных мальчишек: мужчины стали говорить с женским интонационным повышением в конце фразы — так, как говорили у них в семье), — в эти годы Носов для своих читателей сам был отцом.

И каким!.. Обратим внимание: Носов никогда не обращается к читателям с нотацией или призывом: «Делайте так-то и так-то». Просто его герои сами поступают как нужно. А ведь по натуре, повторимся, он был занудой! Почитайте его адресованные взрослым «Иронические юморески», это же кошмар, уши в трубочку!.. Учит, наставляет, нудит, нудит… А в детских рассказах этого нет.
Возьмём психологический триллер «Бенгальские огни». Мишка испортил мамину кастрюлю: так сточил напильником, что она в сковородку превратилась. Вроде бы «вставной аттракцион» такой, шутка. А где же мораль? А вот она:
— Что же тебе мама сказала?
— Ничего не сказала. Она ещё не видела.
— А когда увидит?
— Ну что ж… Увидит так увидит. Я, когда вырасту, новую кастрюлю ей куплю.
— Это долго ждать, пока ты вырастешь!
— Ничего.
Пауза, конец диалога. Нечего сказать Мишке.
Носов, писавший из самой сердцевины советской дидактичной литературы, был очень деликатен с главным вроде бы объектом воспитания и проклёвывания мозгов — с детьми. И это, повторюсь, не черта характера, это выражение писательского мастерства. Он мог позволить себе роскошь быть ненавязчивым по одной простой причине: потому что владел подтекстом.
Разве дети не поняли, что Мишка поступил (не с кастрюлей, а с мамой) нехорошо? Поняли прекрасно, почувствовали. Но если бы их стали тыкать в это носом, возникло бы противодействие давлению и отторжение педагогической морали: «Да ладно… Подумаешь… Ещё чего!»
Посмотрим, кстати, как дальше развивается в рассказе конфликт между рассудительным Колей и авантюристом Мишкой.
Они отправляются в лес за ёлками. Коля свою выбрал быстро, а Мишка долго капризничал. В лесу стемнело, и мальчики заблудились. Мишка недоумевает: «Я ведь не виноват, что так рано наступил вечер». — «А сколько ты ёлку выбирал? А сколько дома возился?» — как бы ворчит Коля (а на самом деле объясняет читателю, что да, Мишка виноват).
По колено в снегу мальчики блуждают по лесу. Мишке чудятся опасности, и он выдумывает разные по-детски несерьёзные пути их преодоления, Коля по-взрослому реалистично критикует его проекты с позиций их технической неосуществимости.
В конце концов, Мишка падает с обрыва и ушибает ногу. Не может идти. Коля вскипает: «Горе мне с тобой! То ты с бенгальскими огнями возился, то ёлку до самой темноты выбирал, а теперь вот зашибся… Пропадёшь тут с тобой!»
Мишка отвечает как бы по инерции скандала: «Можешь не пропадать!»
Кажется, вот сейчас конфликт достигнет кульминации, станет непримиримым… Но нет. Неожиданно Мишка предлагает: «Иди один. Это всё я виноват. Я уговорил тебя за ёлками ехать».
Пылким натурам свойственно благородство.
Но Коля и к этому порыву относится критично: «Вместе приехали, вместе и вернуться должны». В этой чеканной формуле звучит взрослая непререкаемость, чувствуется несколько даже унылая детерминированность взрослого мира, взрослая обречённость на правоту.
И вооружившись верным учением, Коля находит техническое решение проблемы (хотя обычно всё в их паре фонтанирует идеями Мишка) — сажает Мишку на ёлку и тащит, как на санях.
Вторую ёлку пришлось оставить. И это становится причиной продолжения конфликта потом, после спасения.
— Отдай ее на сегодня мне, — говорит Мишка, — и дело с концом.
Ах, как это мило и узнаваемо. «Посади свинью за стол…» Пока Коля приходит в себя от такой наглости, Мишка предлагает торг на грани отчаяния: «Возьми мои лыжи, коньки, волшебный фонарь, альбом с марками. Ты ведь сам знаешь, что у меня есть. Выбирай что угодно». (У него действительно сложное положение, ведь он пригласил ребят на бенгальские огни, а ёлки теперь не будет.)
И Коля неожиданно соглашается. Но требует взамен не лыжи, не коньки (хотя это цена очень высокая), а живое существо — собаку Дружка. Всерьёз ли? Прямо дьявол-искуситель какой-то!..
.
Мишка выдерживает нравственное испытание, и Коля вознаграждает его за это: «Ну ладно, тогда бери ёлку даром». То есть сперва задаёт задачку, а затем поощряет ученика за правильное решение.
Заметим, что при всей своей правильности и незаменимости Коля во всех рассказах цикла — персонаж как будто фоновый, служебный. Будь он единственным героем, про него и рассказать было бы нечего, никаких интересностей. Это же Мишка превращает готовку каши в приключение, Мишка придумывает делать инкубатор и кататься на автомобильном бампере, Мишка своим несносным поведением драматизирует строительство катка и так далее. (Даже в «Тук-тук-тук» ночные страхи Коли и Кости провоцирует Мишка — тем, что кладёт под подушку топор, перед тем как крепко и спокойно заснуть.) А чем интересен Коля?
Тем, что он вообще не ребёнок. Он замаскированный взрослый. Авторская функция. Удивительно ли, что Носов назвал его своим именем? Ведь когда отцов не хватает, кто-то должен их заменять. Ну, хотя бы показывать, какие они бывают. Что делают. Для чего нужны.
Хороший педагог позволяет ученику самостоятельно решить проблему, незаметно, неназойливо подталкивая его к правильному решению. Позволяет совершать ошибки, потому что на них учатся. Именно таков Носов. В его произведениях не находится места романтическому броскому подвигу, но в них много терпения и воли к победе. Он упорно решает математические задачки вместе с Витей Малеевым. Учит не лгать («Про Гену»), не трусить и не подличать («Саша», «Под одной крышей»), быть ответственным за тех, кто слабее или младше тебя («И я помогаю»). Словом, учит всему тому, что необходимо здесь и сейчас — в обыденной жизни.
Подвиги, как правило, случаются где-нибудь «не здесь» или когда-нибудь «потом». Но жизнь нельзя откладывать на потом. Чтобы грёзы о подвигах не стали разновидностью эскапизма, мальчик должен научиться быть мужчиной «в малом», здесь и сейчас.

ыть кем-то в малом — искусство из ряда настоящих. В большом и дурак поместится. Ну, например. Выразить мысль в пяти словах — или в пятидесяти: что трудней?
Считается, что Носов был писателем «сухим», со скудными выразительными средствами. Ну, вообще-то для мужчины сдержанность — это естественно. А цветистость — скорее нет. Кроме того, сложную мысль можно выразить просто, а простую — сложно. Был ли Носов чужд тонких материй? Просто говорить не значит просто думать и чувствовать. Иногда это значит не навязываться читателю, не выпячивать своего «зрения», доверять собственному читательскому опыту, уважать его.
Взять описание сумерек в рассказе «Тук-тук-тук»:
.
О сколько восхитительных соплей можно бы выжать из этого волшебного, манящего к себе «всё переменилось» и «попали каким-то чудом»!.. Но зачем? Кто понял, о чём речь, тот сам довообразит всё необходимое, а кто не понимает, тому «лирическое отступление» только досадит. Помните же, как мы в детстве не любили «описания природы»? А ведь это даже никакое не «описание». Это то, что называется «фермент мифа», — намёк на будущий сюжет. Ведь именно из-за того, что «нам даже стало казаться…», ребята и приняли потом стучащих клювами по крыльцу ворон за разбойников.
Но!.. Носов показывает пальцем, куда смотреть, но не объясняет дополнительно словами, куда именно, не подчёркивает, где надо, голосом, жестами и драматическими паузами, не объясняет, слезливо там или смешно, радоваться или бояться… Просто показывает. А это как-то… Публике непривычно.
Вот есть два вида, а точнее, способа юмора. Один — это представлять на суд зрителя смешные ситуации с каменным лицом. Чуть повести бровью — это уже ух!.. Сойдёт за гримасу. «Лицо его исказилось, сэр Джон не смог сдержать чувств». И второй способ — это необязательно, чтобы ситуация была такой уж смешной, главное — побольше «подачи». Например, противно пищать, как когда-то комик Шифрин, или дёргать глазом, или в конце каждой фразы обезоруживающе попукивать. Тут уж всё равно, с чего ухохочешься. «Ай, юморист!..»
Второй способ абсолютно преобладает на нашей эстраде, потому что адресован, понятно, непритязательной публике. Но что удивительно, именно его, этот способ, предпочитает в литературе публика, считающаяся притязательной.
Вообще с размыванием и выветриванием национальной ментальности среди кучи прочих неприятностей с нами произошла и следующая: был утрачен литературный вкус. (За прочие роды войск не скажу, не моё дело.) «Хорошим» стало считаться «саморепрезентативное». То есть «представляющее себя». По-простому говоря, размалёванное, витиеватое и манерное. Так и хочется нехорошо по-сексистски сказать «бабье». Или ещё более нехорошо — «жидовское».
Не секрет, что детской (и не только) литературой в советское время заведовали евреи. Среди них было немало прекрасных: Ликстанов, Могилевская, Цюрупа (с такими евреями и русские не нужны), немало хороших, правильных: Кассиль, Юрий Яковлев — и таких, кто на грани фола: Алексин, Драгунский. Ну и ещё много никаких. Этакий совокупный Иосиф Дик. Но были и откровенные вредители. Юрий Коваль, Вениамин Каверин — бр-р-р… Это я к тому, что Носов был не просто утёсом-великаном, но ещё и островком спасения в море израилеванном. По слухам, заседал в каких-то комиссиях, где-то в редакции «Нового мира» — этого гнезда советского либерализма: посередине, как пчелиная матка , пьяненький и больной Твардовский, а вокруг него… Уведите детей.
И вот там — заседал Носов. Угрюмый марксист, консерватор, реакционер. Злобно голосующий против там, где «все наши» за. И точно так же, упрямо и угрюмо посапывая, гнул свою линию в литературе. Покуда вокруг побеждала сулящая более скороспелую читательскую любовь «выразительная» тенденция — с «авторскими интонациями», с иронией и фигами в кармане, с насмешничеством, с нравственным превосходством и вечно недовольным нытьём.
Со всем этим «гуманизмом» и «вниманием к личности».
Ах, миленький кургузенький мужичок с вошкой — это он выиграть война! А не какой-то гадкий, непонятный «народ»! Что за гадость этот народ? Что за гадость эти памятники Вучетича? Нет, мы знать: войну выиграть мужичок в лапоток — с вошка и гармошка!
Интеллигенту-гуманисту хочется умиляться, хочется иметь дело с малым. Может быть, чтобы самому быть большим, не знаю. Его раздражают большие масштабы, как Петра Великого высокие потолки. Ему подавай крохотку, микромир, художническую точку зрения мухи, набоковскую раздавленную вишенку на перроне — уж про косточку-то он выпишется… А как выпишешься в масштабе войны?
Мелкий человек подсознательно боится быть маленьким: а ну как затопчут. Большой человек — не боится, нет.
ачали мы этот разговор с паттернов — паттернами и закончим. (Не знаю, как у вас, а у меня ночь уже.) Я вот тут подумал, какие эти самые паттерны Носов вложил в меня? (Если интересно, и вы подумайте.) И решил, что сейчас, когда я так вырос, познал вино, женщин и радость отцовства, прочёл много книжек (в основном всякого барахла), самое большое влияние на меня по-прежнему оказывают два момента из носовского наследия.
Первый — волшебная палочка из «Приключений Незнайки в Солнечном городе». Чтобы её получить, надо не хотеть её получить. То есть надо совершать хорошие поступки не для получения волшебной палочки, а просто так. «Делай, что должен, и будь что будет». «Действуй без надежды». «Целиться, не целясь». Если ставишь на огонь чайник и ждёшь, чтобы он поскорей вскипел, он будет закипать долго, мучительно долго. Стоит отвлечься, забыть — и вскипит, и выкипит, и распаяется, любо-дорого.
Второй момент — «Приключения Скуперфильда». Есть такая глава в «Незнайке на Луне». Самая пронзительная. Вообще, по-моему, Скуперфильд — один из главных, узловых персонажей романа. Он выражает ту мысль, что общество способно перемениться к лучшему не только под воздействием насилия, но и в силу некоторых внутренних обстоятельств. Скуперфильд — сволочь, ничтожество, но в нём есть искра добра, благодаря которой он в конце концов и спасается (в отличие от Спрутса, например): он любит животных, природу, уточек, цветочки-листочки.

В главе «Приключения Скуперфильда» выражена огромадная сумма знаний, заключённая для взрослых людей в романах «Голод», «Допплер», «Потерпевшие кораблекрушение», «Расмус-бродяга» и миллионе других. Это идея уклонения от цивилизации, основанная на максиме «деньги есть нельзя». Великая идея, единственная в современных условиях делающая человека свободным. Всё прочее приводит к обмену денег на другие деньги: одной мертвенной идеологической системы на другую мертвенную идеологическую систему.
А древо жизни пышно зеленеет: Скуперфильда кусают клопы, он знакомится с хорошими парнями, которые дуют кипяток из консервной банки, вот он уже с ними (миллионер — с безработными, понадобилось меньше суток, чтобы очиститься от культурной скорлупы), вот уже бежит воровать картошку… Но не всё так быстро.
Скуперфильду — единственному в романе меняющемуся персонажу (а говорят, люди не меняются! меняются, ещё как!) — предстоит проделать ещё некоторый путь, а нам предстоит немедленно этот путь закончить, потому что про другого писателя великого пора начинать писать. Их много у нас — страсть. Прямо опускаются руки.
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!








