Интеллектуальная честность Танеева
Артем Рондарев о русском композиторе Сергее Ивановиче Танееве
Несколько унизительное представление о композиторах (и не только композиторах) второго ряда в каждой богатой культуре скрывает под собой большое число безупречно гениальных людей: в немецкой музыке это Макс Брух, например, написавший множество блестящих произведений, от которого в широком репертуаре остался только один скрипичный концерт, во французской это, например, Эммануэль Шабрие, автор поразительной красоты камерных и оркестровых пьес, которого в частности очень любил и высоко ценил Стравинский. Список этот длинен и во многом печален, потому что «композиторов второго ряда» играют обычно мало, знают поверхностно и в любой обзорной книжке по истории культуры фамилии их уходят в примечания мелким шрифтом. Иногда причины, по которым композитор попадает в этот ряд, странны и неочевидны, иногда они лежат на поверхности. В случае с Сергеем Ивановичем Танеевым причина его несколько периферийного существования очевидна: в русской музыкальной культуре он остался примером в высшей степени нехарактерного для нее сугубо интеллектуального подхода к сочинению и концептуализации музыкальных проблем. Его горячий поклонник, музыкальный критик, теоретик и композитор Вячеслав Гаврилович Каратыгин определил его в некрологе как человека, «несколькими веками запоздавшего родиться в мир», в силу пристрастия Танеева к классическим образцам и формам, связанным в западно-европейской музыке с эпохой рационального. И лишь сейчас, по прошествии долгого времени, становится понятным, что в музыкальной академической (и авангардной) традиции ныне возобладал именно тот, предвосхищенный Танеевым рациональный и исторический подход.
одился Сергей Иванович Танеев 13 [25] ноября 1856 года во Владимире, в семье древнего, хотя и несколько второстепенного рода. Отец его, Иван Ильич, человек был весьма образованный — кончил три факультета Московского университета, — большой поклонник музыки и литератор-дилетант, мать, Варвара Павловна, была из провинциальной дворянской семьи, то есть женщина, поверхностно сведущая в светских дисциплинах и трезвомыслящая. Разумеется, отец занятия сыновей музыкой всячески поощрял, и особенно занятия младшего, Сергея, даже несмотря на то, что приглашенный учитель запретил знакомить ребенка с сочинительскими опытами отца из того опасения, что это испортит сыну весь слух и вкус.

Мать композитора Варвара Павловна и отец Иван Ильич на фоне фотографии дома Танеевых в Москве

Танеев в год поступления в консерваторию
В начале 60-х семья перебралась в Москву. Там, едва в 1866 году открылась консерватория, в числе первых студентов очутился и Танеев, которому не исполнилось еще и десяти. Слух у него был абсолютный. С 69-го года он учился в классе у Чайковского, с которым после дружил до самой смерти того. Учился он и у главы консерватории Николая Рубинштейна, блестящего пианиста (Рахманинов, например, считал, что он ничуть не уступает брату Антону). Консерваторию он окончил в 1875 году, лучшим учеником; традиционно, вслед за биографом Танеева Бернандтом, сообщается, что он был первым выпускником, получившим золотую медаль. Вера Николаевна Брянцева, однако, в вышедшей существенно позже биографии Рахманинова, ссылаясь на архивы консерватории, указывает, что постановление, согласно которому выпускники, с отличием окончившие композиторский и исполнительский курсы, награждаются золотой медалью, было принято в 1885 году, то есть на десять лет позже года выпуска Танеева.

Николай Рубинштейн и Петр Чайковский на фоне фотографии дворца графа Воронцова, отданного под Московскую консерваторию
Что касается исполнительства, то пианистом он был, судя по отзывам, исключительным, но выступал мало, что вызывало огорчение всех, кто знал его в этом качестве. Учившийся у него Болеслав Леопольдович Яворский, знаменитый наш педагог и чрезвычайно оригинальный музыкальный теоретик, пишет, что в Танееве поражал казавшийся безграничным технический аппарат: он играл труднейшие пассажи с невероятной скоростью и чистотой, а когда слушатели выказывали изумление, пожимал плечами и отвечал, что можно же еще быстрее, — и играл быстрее, и никогда не было ощущения, что в своей игре он достиг предела. Что еще более поразительно в этом смысле: будучи блестящим пианистом, он очень мало сочинил для этого инструмента — из относительно известных его композиций существуют только Прелюдия и фуга опус 29, да и те теперь играют очень редко.
Прелюдия и фуга соль-диез минор, op. 29
После выпуска он жил концертной деятельностью; в 1876 году отправился в Париж, куда его настойчиво звал старший брат, Владимир Иванович, чрезвычайно известный и популярный в России адвокат и философ-анархист, о котором в письмах весьма уважительно отзывался Маркс (и которому Совнарком выдал в 1919 году охранную грамоту за подписью Ленина как «преданному другу освобождения народа» [sic]), будущий автор книги «Ейтихиология» («Наука о счастье в коммунистическом строе»). Там Танеев свел знакомства с известными в интеллектуальных и богемных кругах людьми, в том числе с Тэном, Франком, Сен-Сансом, Золя, Флобером, Ренаном, Доре, семейством Виардо и, разумеется, с Тургеневым. По возвращении он стал преподавать, писать музыку и заниматься тем разделом музыкальной теории, который впоследствии сделал его знаменитым, а именно контрапунктом.

Сергей Танеев (слева) и его старший брат Владимир на фоне снимка «охранной грамоты», подписанной Лениным
радиционное представление о московской школе как о школе западнической грешит существенным упрощением и даже прямым дезориентированием наблюдателя: московская школа, точно так же, как и санкт-петербургская, прежде всего считала себя школой национальной. Вот что говорит по этому поводу Танеев в письме Чайковскому: «Не надо забывать, что прочно только то, что корнями своими гнездится в народе. У западных народов каждое искусство прежде, чем влиться в общее русло, было н а ц и о н а л ь н ы м. Это общее правило, от которого не уйдешь». Никаким космополитизмом тут не пахнет; более того, здесь же Танеев прибегает к хорошо нам известному идеологическому тропу, утверждая, что западная музыка утратила свою классическую строгость, притом — неизбежно и объективно, в то время как у русских музыкантов есть возможность избежать этого, перестав следовать западному пути; за эти мысли Чайковский прямо назвал его славянофилом и порядком за то отругал, посетовав, что тот рискует превратиться в «Баха из Пожарного депо». Тем не менее, возражение Чайковского тоже ничего общего с космополитизмом (который ему много вменяли) не имеет и направлено лишь против эксцессов кажущегося славянофильства Танеева. Чайковский возражает не против его народных идеалов, а против попыток утверждения российской «особенной стати», вот его аргументы: «…я бы сравнил европейскую музыку не с деревом, а с целым садом, в коем произрастают деревья: французское, немецкое, итальянское, венгерское, испанское, английское, скандинавское, русское, польское и т. д. По-моему, европейская музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит что-нибудь свое на пользу общую. Каждый западноевропейский композитор прежде всего или француз, или немец, или итальянец и т. д., а потом уже европеец».
уть спора Чайковского с Танеевым сводилась к следующему: уловив в музыке своих парижских знакомых приметы кризиса тональной гармонии, Танеев предложил свой выход из этого кризиса, а именно возвращение к полифоническому письму, в котором гармония перестает быть несущим каркасом, а становится следствием, производной из сочетания горизонтальных, мелодических, если угодно, линий развертывания материала (позже, во вступлении к знаменитому своему труду «Подвижной контрапункт строгого письма», он писал: «Для современной музыки, гармония которой постепенно утрачивает тональную связь, должна быть особенно ценною связующая сила контрапунктических форм»). В этом ретроспективном взгляде на перспективы музыки содержится на самом деле весьма элегантное философское умозаключение, своего рода замена онтологии на гносеологию, интеллектуальный пируэт, заключающийся в отношении к гармонии не как к объективному (и неизбежному) содержанию музыкальной ткани, не как к порождающему началу в музыке, но как к следствию определенной интерпретации процесса развертывания музыки, которой можно избежать. Изложить эту идею можно примерно следующим образом: если мы перестанем считать музыкальную вертикаль гармонией (или, по крайней мере, перестанем обращать на нее внимание), то нам сделается безразличной вызванная ее кризисом проблематика. В двадцатом веке эта мысль стала казаться очевидной; в то время, когда Танеев ее формулировал, она представлялась экстравагантной. Чайковский очень скоро увидел в этом намерении нечто опасное и запротестовал, находя контрапунктические изыскания Танеева скучными и непонятными; в итоге Танееву со своей радикальной позиции пришлось отступить и надежду на «русский контрапункт» оставить; а жаль. Как бы там ни было, но в этот период он выучился контрапунктическому и имитационному письму так, как не знал его никто другой; с тех пор в русской музыке равных ему в этой области не было.

Книга С. И. Танеева с дарственной надписью автора
Основным мотивом его последующих занятий контрапунктом было очень простое предположение: он утверждал, что вся европейская музыка, от которой мы до Глинки были практически изолированы, эволюционировала логично, от форм народного музицирования через ученый контрапункт к нынешнему положению вещей; что все имеющиеся сейчас в европейской музыке формы создавались логично и исторично и оттого не могли быть какими-либо иными; и что все они, в той или иной форме, вытекли из фуги. Русские композиторы, придя на этот праздник жизни слишком поздно, получили эти формы в готовом виде, не примечая и не чувствуя их исторической связи между собою. Таким образом, Танеев уподобляет русских композиторов архитектору, который, увидя деревянный дом, стал бы пытаться повторить его форму в камне, — разумеется, не получив ничего путного. У русских нет своей, местной логикой развития созданной формы; стало быть, русская музыка должна обратиться к старой форме, к прото-форме, если угодно (которой, как мы помним, является фуга), чтобы затем, освоив ее, прийти к созданию из нее логичных, исторически обусловленных национальных, не-заимствованных форм. Путь длинный, сложный и неочевидный; неудивительно, что он никому из танеевского окружения не понравился. Лишь спустя четверть века модернисты-неоклассицисты пришли к сходному, хотя и идеологически иному утверждению, решив вернуть музыку к до-романтическому состоянию невинности.
У Танеева, впрочем, были на Западе предтечи и единомышленники, в частности Сезар Франк, Брамс и Регер, которые, каждый по-своему, старались возродить, закрепить или заново актуализовать до-романтические, строгие классицистические формы; мотивации у всех были разные, однако в основе их лежало общее неудовольствие тем путем, которым отправил музыку романтизм, — путем экзальтации, путем подчинения мастерства сомнительному идеалу пафоса или правдоподобия (а иногда того и другого вместе), путем вменения музыке не-музыкальных, мистических, инструментальных или теургических идеалов, путем делания из музыки чего-то большего, нежели музыка. В то время, о котором идет речь, подобные партизанские попытки повернуть историю вспять представлялись вздором, ретроградством и фанаберией пресыщенного интеллекта; ирония состоит в том, что именно к этим идеалам спустя двадцать-тридцать лет и пришел модернизм. Для Танеева музыка не была «половодьем чувств» — для него она была логическим высказыванием (Асафьев пишет, что творчество его стоит «на грани становления музыки как философии»); именно этот интеллектуальный идеал стал определяющим в музыке Шенберга и — особенно — Стравинского второго его, неоклассицистического периода. Таким образом, «консерватор и ретроград» Танеев в силу своей интеллектуальной честности оказался в исторической перспективе совершенно прав; более того, он оказался большим европейцем в этом своем идеале, нежели многие из его современников-европейских композиторов.
Еще характерно тут то, что подобный ход мысли Танеева сближал его не с кем иным, как с Глинкой, который подступался к тем же рассуждениям на двадцать лет раньше: во время своих поездок по Испании он все больше обращается к европейской народной музыке, с одной стороны, и к полифоническому письму — с другой, словно поняв, по словам Асафьева, «что в пределах все большей и большей изысканности изощряется вкус, но утомляется чувство», и желая противопоставить утомляющему чувство романтизму строгие формы ранней музыки с опорой на народный мелос. У Глинки, к сожалению, недостало сил как-то развить и воплотить свои поздние идеалы; теперь к ним пришел Танеев.

C.Н. Кругликов
тношение к «архаическим» композиторским опытам Танеева в 80-е-90-е годы среди просвещенной публики было в общем отрицательным, варьируя от вежливого недоумения до прямой неприязни. Вот характерный отзыв рецензента Семена Николаевича Кругликова, откликающегося на исполнение в 1883 году танеевского струнного квартета до-мажор: «Непонятная в наше время, особенно для русского, какая-то сознательная моцартность тем и подделка под классическую скуку в их разработке; очень контрапунктическая техника, но полное пренебрежение по отношению к роскошным средствам современной гармонии; отсутствие поэзии, вдохновения; всюду чувствующаяся работа, одна только добросовестная и умелая работа». Кругликов, впрочем, был идеологически пристрастен в данном вопросе, находясь в весьма своеобразной позиции «московского посла санкт-петербургской школы»: он в Москве отстаивал идеалы «Могучей кучки» и тем заслужил прозвище «московского Стасова»; тем не менее, и сугубо «московская» публика недоумевала не меньше. В архивах Танеева сохранились даже анонимные письма (с методично проставленной рукой Танеева на них датой получения), в которых неизвестный доброжелатель советует ему, как сейчас бы сказали, «не умничать» и не писать музыку, а играть себе на рояле: «Вы всегда останетесь только замечательно умным музыкантом, а не художником», — пишет Танееву этот во всех отношениях приятный человек. Необходимо было порядочное упрямство, чтобы в таких условиях продолжать начатое дело; Танеев этим упрямством обладал в полной мере: даже Чайковскому, которого он почитал как гения, учителя и друга, не удалось сдвинуть его с выбранного пути. Не следует, однако, думать, что упрямство это свидетельствовало о какой-то неприятной стороне характера Танеева, — нет, по всем отзывам человек это был скромный, глубоко порядочный, ровный в общении, с весьма развитым (и не всегда безобидным, впрочем) чувством юмора. Еще был он несентиментален, сдержан в эмоциях и рассудителен, что иногда даже ему самому доставляло неудобство: он как будто не умел сильно увлекаться эмоциональными порывами или, как минимум, не любил показывать подобное увлечение; вот он сообщает: «Я всегда стесняюсь высказывать свои впечатления: даже в театре не люблю, чтобы около меня сидели знакомые, ибо терпеть не могу высказывать, что я чем-нибудь взволнован или что-нибудь произвело на меня сильное впечатление». Таким образом, упрямство Танеева обеспечивалось рациональной уверенностью его в своей правоте.
К своей странной и скромной славе он относился стоически, хотя, разумеется, и с огорчением, — вот он пишет Чайковскому по поводу слухов о том, что написанную им симфонию ре-минор не будут играть в московском отделении Русского музыкального общества: «В прошлом году я написал квартет. В конце года Эрдмансдерфер (Макс Эрдмансдерфер, немецкий дирижер. — А.Р.) услыхал этот квартет (Вы при этом присутствовали) и сказал, что в сезоне его исполнить нельзя, а что он поставит его на программу в следующем, т. е. в теперешнем. Конечно, этот квартет не был игран в нынешнем году и, наверное, никогда играться не будет. Для меня не будет нисколько удивительным, если то же произойдет с симфонией». Симфония была сыграна, впрочем, без какого-либо успеха и больше при жизни Танеева не исполнялась.
Струнный квартет №1 си-бемоль минор, op. 4
После смерти Николая Рубинштейна в 1881 году место директора консерватории сделалось вакантно; его некоторое время занимал профессор теории музыки Николай Альбертович Губерт, однако, поссорившись с уже помянутым выше Эрдмансдерфером, преподававшим дирижирование, ушел, и в итоге 30 мая 1885 года по настоянию Чайковского директором был выбран Танеев. Кандидатура его устраивала всех, так как в противоположность двусмысленной своей композиторской славе как музыкант, как специалист и как человек он был уважаем всеми без исключения. Должность директора была делом чрезвычайно хлопотным и отчасти унизительным, так как консерватория существовала во многом на частные пожертвования, ради которых приходилось быть вежливым с самыми невозможными людьми, включая купцов (схему подобных отношений можно найти у Чехова). Так, Губерт однажды оставил без финансирования младшие классы просто оттого, что сказал присутствовавшему при обсуждении денежных вопросов меценату, широким жестом доставшему бумажник: «Да что ты носишься со своим бумажником, дай обсудить вопрос!» Танеев методично занимался устройством консерватории и за четыре года своей директорской деятельности устранил весь ее финансовый дефицит, что, в общем, граничит с подвигом. Пост этот он занимал до 1889 года.
В 1894 году он закончил свою единственную оперу «Орестея», написанную на античный, все так же подчеркнуто архаичный сюжет: эту сюжетную архаику отмечали даже те, кто оперу хвалил, она сама по себе была очевидным идеологическим высказыванием Танеева, да и объективированное, подчеркнуто типизированное (в этом смысле — вполне вагнеровское; Танеева и сравнивали с Вагнером после премьеры) решение этого сюжета в музыке тоже обладало определенным полемическим зарядом. Парадоксальным образом опера эта принесла ему признание там, где менее всего следовало того ожидать: в Петербурге. Римский-Корсаков, Лядов и другие сразу восхитились ею, Римский-Корсаков назвал ее сочинением «необыкновенной красоты и выразительности». Таким образом, Танеев сблизился с беляевским кружком, о котором речь у нас шла в статье о Балакиреве. Тут нужно помнить, что к этому моменту беляевский кружок — и санкт-петербургская школа в целом — уже утратили былое обаяние прогрессивности и многими воспринимались как явление консервативное, если не сказать — косное; так что танеевскую славу «реакционера» среди слушателя-интеллектуала и прогрессиста этот факт только подогрел.
«Орестея»
В 1895 году, прибыв по приглашению в Ясную Поляну, Танеев там подружился, несмотря на значительную разницу в возрасте, с Толстым. Помимо прочего, Танеев тут выяснил, что Лев Николаевич, известный своими программными антимузыкальными высказываниями, временами сочиняет музыку (музыка входила в список дисциплин, которые Толстой наметил себе в юности изучить), и даже уговорил его исполнить что-либо «из своего»; в итоге в нотной записи Танеева сохранился юношеский вальс Толстого, который тот ему показал в 1906 году.
Своих учеников Скрябина и Рахманинова, обретших к концу 90-х годов большую славу, он любил, но к музыке их относился по-разному. Скрябинские поиски новых форм высказывания вызывали у него иронию, вторую его симфонию он находил полной малосодержательных мест и плохо инструментованной, после же Третьей, синопсис которой Скрябин ему рассказал в весьма выспренних выражениях («Днем заходил Скрябин. Излагал свою философию, главной основой которой служит мысль: «я есть я», «мир есть мое создание», «я выше бога» и т. п., и играл 3-ю симфонию, которая должна изображать борьбу с мистицизмом и «самоутверждение», — пишет он в дневнике) и вовсе перестал интересоваться его творческими исканиями, сохранив, впрочем, с ним дружеские отношения. Рахманинова, напротив, он ценил весьма высоко и многое сделал для того, чтобы музыка его исполнялась и получала должное освещение; в ответ Рахманинов посвятил ему свою Вторую симфонию.
зо всего композиторского наследия Танеева наиболее известны — и важны для русской музыкальной культуры — его камерно-инструментальные ансамбли: так же, как Глинка был создателем национальной оперы, Бородин — национальной симфонической формы, а Балакирев — национальной фортепианной сочинительской школы, Танеев почитается родоначальником нашей камерной инструментальной традиции. Сочинений этого жанра у него, включая сюда трио, квартеты и квинтеты, двадцать два цикла, при жизни его они исполнялись мало, причиной этому отнюдь не их качество, а то пренебрежительное положение, в котором пребывала в эпоху перемен на стыке веков камерная музыка, да «реакционная» слава Танеева, о которой речь шла выше, — слава тем более странная, что Танеев по убеждениям (которые он, впрочем, высказывал редко) был материалист и демократ, к любого сорта аристократизму относился скептически и в 1905 году вместе с коллегами приветствовал созыв Государственной думы в следующих словах: «Группа московских музыкантов в первый день Свободной России горячо приветствует и благодарит всех деятелей народного освобождения». Деньги, которые он зарабатывал частными уроками, в том же году он отдавал в пользу бастующих рабочих, деятельно помогал организованным в 1897 году Московским Пречистенским курсам для рабочих, а 4 сентября 1905 года ушел с поста профессора консерватории в знак солидарности с бастующими студентами, отказавшись от положенной ему правительственной пенсии, после чего, спустя год, стал учредителем Народной консерватории при Московском обществе народных университетов — доступного учебного заведения, в котором могли получать музыкальное образование учащиеся, служащие и рабочие.
Струнное трио ре мажор, op. 21
В 1908 году он выехал с концертами, на которых исполнял собственные произведения, в Берлин, Вену и Прагу — это была первая попытка его покорить западную публику, и особенным успехом она не увенчалась. Западная критика упрекала его в том же, в чем упрекала и отечественная: в переизбытке «учености» в его музыке, которая вредит непосредственному впечатлению.

Пелагея Васильевна, няня композитора
В итоге прожил он жизнь размеренную, бедную на события, — настоящее проклятье для биографа. Человек он был одинокий, семьи у него не было, и жил он, прямо как гоголевский персонаж, на попечении своей няни, Пелагеи Васильевны Чижовой; смерть ее в 1910 году была для него огромным ударом. Он со многими дружил, но мало кому открывался, и Луначарский в десятые годы называл его — тепло, но с легкой иронией — старым холостяком. Он был поразительным педагогом, воспитал огромное количество музыкантов и музыковедов, отчасти небескорыстно в том смысле, что его работа для него была залогом сносной старости. В 1903 году, в возрасте сорока восьми лет, он записал в дневнике: «Думал о том, что в старости буду очень одинок, разве мои ученики будут иногда обо мне вспоминать. Надо работать побольше и получше, чтобы сочинениями своими привлечь к себе людей, которые, б[ыть] может, и старость мою сделают менее одинокою». До старости, однако, он не дожил: в апреле 1915 года, простудившись на похоронах Скрябина, куда он пришел, несмотря на холодную погоду, в демисезонном пальто и с непокрытой головой, он заболел, болезнь запустил, полагая ее не стоящей внимания, и 6 [19] июня скончался в селе Дюдьково (или Дютьково) под Звенигородом. Хоронила его вся музыкальная Москва.

ентральной теоретической работой Танеева, работой всей его жизни (которую он делал в течение семнадцати лет) был упомянутый уже выше объемный труд «Подвижной контрапункт строгого письма», вышедший в свет в 1909 году, — свод правил и законов, котором должна подчиняться полифоническая пьеса особого рода (здесь, к сожалению, нет места вдаваться в исторический экскурс, всех интересующихся можно отослать прямо к этой книге, где в начале дан вполне исчерпывающий очерк по проблематике предмета). Величие труда Танеева не только в его исключительной, исчерпывающей подробности и предметности, но и в том, что он подводит под чисто эмпирическую практику, базирующуюся на своде даже не правил, а исторически выработанных предписаний, серьезную теоретическую, аналитическую и философскую базу, показывая, что все правила контрапункта выводимы объективно, что организовались они именно таким, а не каким-либо другим образом не в силу какого-то закрепленного исторически волюнтаризма, а оттого, что они прямо выводимы из общих, структурных, акустических и математических закономерностей. Охват книги беспрецедентен: здесь Танеев анализирует музыку и законы мастеров контрапункта от Дюпре до своих современников, включая в свой фокус теоретические наработки Царлино, Фукса, Марпурга, Фетиса, Беллермана, Праута и так далее — вплоть до современного ему Гуго Римана, автора чрезвычайно влиятельной функциональной теории лада, приводя их все к одному знаменателю, взятому из собственных теоретических представлений, и устраняя расхождения между ними, взявшиеся из нечеткости прежних теоретических построений и проблем с терминологией. Несмотря на всю свою концептуальную сложность, книга эта написана очень четким, внятным и доступным языком, что само по себе примета ясного и сильного ума. Во вступлении к книге Танеев с характерным для него отсутствием самодовольства пишет: «Учение, изложенное в настоящем труде, представляется мне более точным, простым и доступным вследствие применения элементарных алгебраических приемов к контрапунктическим комбинациям и замены словесного изложения некоторых существенных правил условными знаками». И это действительно так: по простоте и элегантности изложения книга его мало с чем сравнится. В истории музыки таких трудов единицы; в истории русской музыки ничего подобного просто больше нет.
Встречена она была с огромным энтузиазмом — Яворский писал Танееву, выражая свое восхищение: «Это первый теоретический труд, основанный на ясных законах, логическое применение и развитие которых создает стройное здание». Другое дело, что найденные Танеевым закономерности уже не особо было к чему применять: перед академической музыкой стояли другие проблемы — то, что полтора века назад принесло бы Танееву мировую славу, в начале века двадцатого сделалось предметом чисто специального интереса. В рамках этого представления было проигнорировано даже то, что Танеев, в общем-то, предложил (как он и обещал это сделать в начале своего пути, в полемике с Чайковским) свою альтернативу для преодоления ограничений тональной музыки, свой способ создавать осмысленные, логически непротиворечивые связи в музыкальном материале, не связанном более тональными законами, придавая ему необходимую гомогенность, — то есть на уровне проблематики он был вполне современен идеологам модернизма; но обращение к форме, которая на то время представлялась в общем устаревшей, скрыло, к сожалению, эту концептуальную новизну.
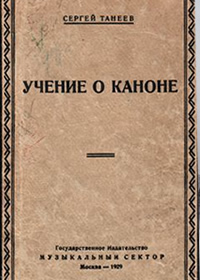
Обложка «Учения о каноне», издание 1929 г.
Продолжением этого труда Танеев предполагал задуманную в 1904 году работу «Учение о каноне», но, к сожалению, не успел ее закончить; тем не менее, даже и в существующем виде эта небольшая (чуть более сотни страниц) книжка способна объяснить любому интересующемуся все, что он хотел бы знать о форме канона (обладающей чрезвычайно большим историческим и теоретическим значением; Ю.Н. Холопов полагал это значение критическим). Подготовивший к печати эту книгу Виктор Михайлович Беляев, крупнейший наш этномузыковед и фольклорист, в предисловии пишет: «Величайший рационалист среди всех музыкальных ученых и гениальный музыкальный теоретик, С И. Танеев в этих своих трудах совлек с учения о контрапункте последние покровы мистики, веками тяготевшей над этой областью теории музыки, и представил его в ясных математических формулах», — и это, пожалуй, исчерпывающая (хотя и несколько полемизированная) характеристика не только методологии, но и философии танеевской научной и музыкальной деятельности.
По идеологическим своим воззрениям он, старший современник Скрябина, Стравинского, Шенберга и Дебюсси, был прямым антимодернистом, но, что характерно, в вину модернизму он ставил не то, что ставится в вину традиционно, то есть не «немузыкальность» или утрату благозвучия, а — недостаточно последовательный радикализм. Вот он пишет: «Отчего стремление к новизне ограничивается только двумя областями — гармонией и инструментовкой? Почему наряду с этим не заметно не только ничего нового в области контрапункта, но, наоборот, эта сторона находится сравнительно с прежним временем в большом упадке? Почему в области форм не только не развиваются заложенные в них возможности, но и самые формы мельчают и приходят в упадок?» Таким образом, модернизм был для него не каким-то антагонистическим врагом — его проблема, в интерпретации Танеева, заключалась в том, что он недостаточно «модернистичен»; спустя двадцать-тридцать лет именно эта претензия будет предъявлена ему новым поколением музыкантов, выученных Мессианом, и они прямо будут заниматься модернизацией полифонии и музыкальных форм.
Концерт для фортепиано с оркестром ми-бемоль мажор
еловек он был глубоко образованный, хорошо начитанный в философии, поклонник Спинозы (ему особенно импонировал аналитический метод рассуждения Спинозы, «геометрическое строение» его «Этики»; надо думать, ему бы понравился Витгенштейн) и атеист. Сабанеев пишет о нем: «Танеев был атеистом чистой воды. Если он и „относился“ как-то к религии, то исключительно в плане эстетики — он любил поэзию и живописное оформление религии. Его атеизм был прямым следствием его рационализма». В дневниках его есть запись разговора со священником Троице-Сергиевой лавры: «Утром встретил на лестнице о. Евгения и пригласил войти в мой нумер. Он у меня посидел, пока я пил чай (он отказался). Он спросил, был ли я у них в церкви, я сказал, что нет. На сделанные им вопросы отвечал, что я неверующий. Разговор шел также о Таинствах, и я отрицал возможность обращения вина и хлеба в кровь и тело». В советское время, когда каждый открытый атеист в русской культуре был на счету, эта его позиция всячески подчеркивалась, ныне она, напротив, вызывает у многих комментаторов неудобства — его принято считать «заблудившимся» сыном православной культуры, а все его свершения объяснять тем, что он, хоть и атеист, был в этой культуре укоренен, и, мол, вот поэтому. Когда подобные идеологические качели у нас затихнут — бог весть.
В СССР он был прямо переведен в разряд полезной архаики: «Орестею» поставили всего несколько раз, камерные и симфонические сочинения играли регулярно, но, так сказать, без помпы. Идеологических претензий к Танееву не было, однако для какой-либо положительной пропаганды его скромная фигура подходила мало. На Западе интерес к нему никогда не был высок; собственно, в рамках всех идеологических нарративов фигура его была так или иначе ничего не олицетворявшей, а потому мало подходящей для построения каких-либо концепций; вне концептуального же поля в истории культуры художнику живется плохо.
узыка Танеева предсказуемо представляет собой очень цельное, архитектонически ясное, рациональное построение, часто кажущееся слишком статичным, но это скорее проблема современного слуха, для которого полифоническое письмо, необходимо, по самой природе своей ритмически и гармонически гомогенное, часто представляется недостаточно живо эволюционирующим. Технически эта музыка чрезвычайно изощренна, иногда даже слишком изощренна: так, танеевскую симфонию ре-минор Римский-Корсаков понял только после того, как сел и разобрал ее по партитуре, до этого она вызывала у него недоумение. Сложность эта уже сама по себе определенно способна воспрепятствовать тому, чтобы музыка Танеева имела широкого слушателя: для западноевропейского двадцатого века, насыщенного интеллектуализмом, это скорее норма, для русской культуры это во многом нонсенс.
Симфония ре-минор
Исторически сложилось так, что русская культура неинтеллектуальна. Это не значит, что она антиинтеллектуальна (хотя бывает и такое, можно вспомнить Толстого) и уже тем более — что она глупа, отнюдь: смысл в том, что сугубо рациональное, логическое начало культуры у нас всегда считалось вещью, подчиненной более важным критериям, — в первую очередь критерию этическому. Рациональные мыслители, мыслители, для которых логическая честность мысли важнее этической честности поступка, у нас редки; особенно немного их среди художников. Все это хорошо объясняет причину, почему Танеев, для которого рациональная ответственность, ответственность перед логикой высказывания, была определяющим критерием творчества, воспринимается (и тем более воспринимался при жизни) как человек немного чужой, почти иностранец (очень характерно при этом, что все, кто говорит о нем, непременно отмечают его честность, как если бы речь шла о немце каком). Тут есть элемент несправедливости, но очевидно, что музыка Танеева ни по каким параметрам не попадает в стереотипическое представление о русской музыке: она несентиментальна, она очень сдержанна по эмоциям и она — что особенно важно — не трагична, она почти всегда разрешается позитивным утверждением, говорящим не о расколе, рефлексии или неврозе, а о рациональном преодолении того, другого и третьего. Таким образом, Танеев как бы оказывается подвешен в пустоте между двумя коллективными точками восприятия: для русского слуха он недостаточно русский, для западного — недостаточно западный, в сравнении со Стравинским, например. Тем не менее, здесь надо отдавать себе отчет в том, что это проблема не подлинного, а именно стереотипического восприятия: такое восприятие, в общем, рассуждает не о музыке скорее, а о нормирующих представлениях о музыке. Достаточно от этого стереотипа избавиться, достаточно подойти к танеевскому творчеству непредвзято — и станет в первую очередь заметно, что у него очень внятная, ясная, разумно устроенная музыка; по словам же любимого Танеевым Спинозы, «Все, воспринимаемое ясно и отчетливо, истинно».
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!









