Кино и Лермонтов
Лев Пирогов о Михаиле Юрьевиче Лермонтове
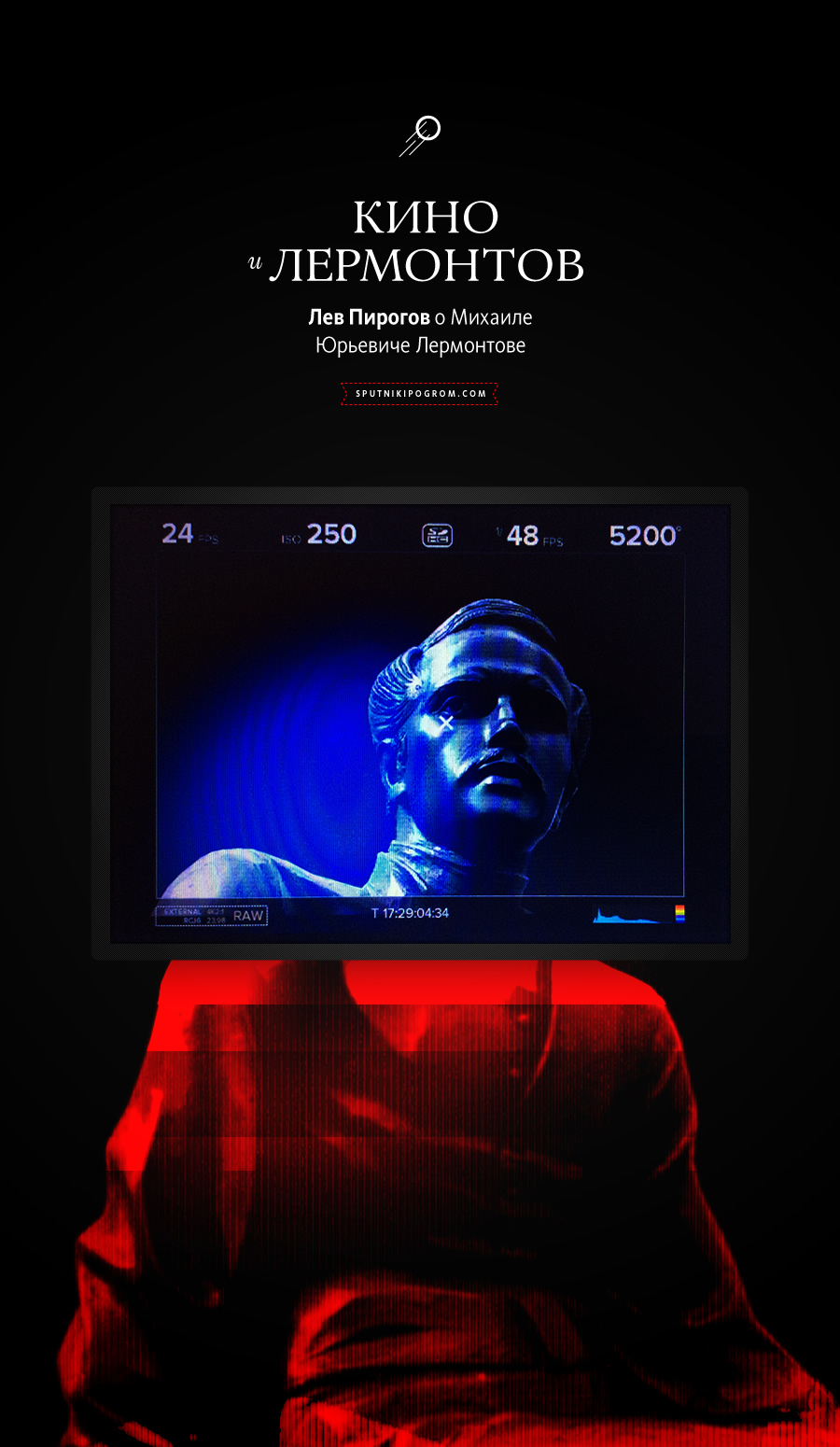
Лермонтове написано столько, что это приводит меня в отчаяние. Будто суёшь три копейки в навороченный банкомат, приняв его за автомат с газировкой. Или нет, вот что настоящий ужас: в гастрономе у кассы — кассирша мечет твои покупки, а у тебя пакет не разлепляется никак. Пальцы толстые, медленные, бесчувственные. А гора покупок растёт. А сзади же очередь. Что скажут люди?
Всем желающим знать что-нибудь про Лермонтова это известно. Часто в нескольких вариантах. Жизнь его была настолько короткой, что на всех исследователей её не хватило, поэтому, помимо официального лермонтоведения, существует ещё и альтернативное. Например, тысяча и одна версия последней дуэли: вы знаете, что пуля Мартынова была отравлена, хотя, впрочем, стрелял не он, а казаки-снайперы из засады по заданию Бенкендорфа? И, кстати, в курсе, какое у Мартынова отчество? Соломонович!.. Ну, евреем-то он, конечно, не был, но в метафизическом смысле… Ву компрене?
А приличные им на это — скетчик, который разыгрывали Фаина Раневская с подружкой Ахматовой (та была настолько неспособна к лицедейству, что из всего скетчика ей можно было доверить лишь слово «ну»), — об истинной причине роковой последней дуэли:
— Правда, шо вы говорили за мою кузину, шо она бля-адь?..
— Ну?
С «южными» еврейскими интонациями… Потешно.
В общем, то ли кровавый режим его сгубил, то ли эти, как обычно, то ли собственный несносный характер. «Очень тяжёлый был человек» (так считается, Раневской видней, но если письма почитать, то вроде и не особо, наоборот: умный и добрый). И очень талантливый. Да плюс боевой офицер: командовал специальной сотней казаков — полуротой спецназа, если на наши деньги. (Ну, это, правда, только последний год жизни, но ведь и до этого воевал.) Помните, как Печорин посмеивается над Грушницким: дескать, как доходит «до дела», тот бросается размахивать шашкой, закрыв глаза?
Но так ведь бросается же!
«У нас убыло 30 офицеров и до 300 рядовых, а их 600 тел осталось на земле — кажется, хорошо! — вообрази себе, что в овраге, где была потеха, час после дела ещё пахло кровью». (Из письма Лермонтова Алексею Лопухину.)
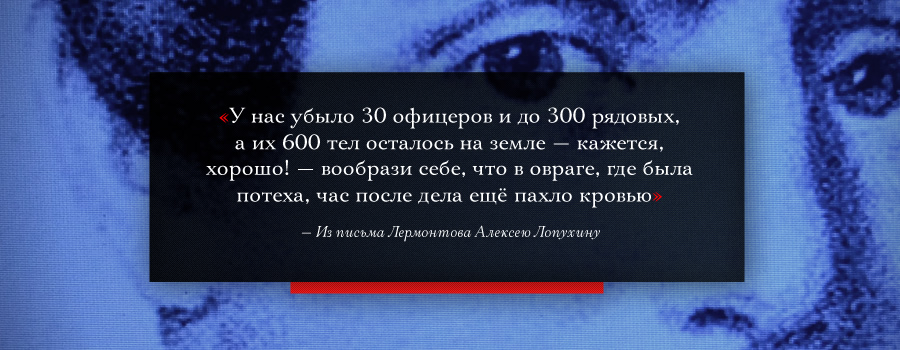
Сегодня это трудно себе представить: чтобы тонкий образованный человек, юноша из хорошей семьи… И ведь по доброй воле!
Но сначала был Петербург, увлечение светом — «та беспокойная потребность любви, которая нас мучит в первые годы молодости». Лермонтов комплексовал по поводу своей внешности. В неоконченном романе «Княгиня Лиговская» о Григории Александровиче Печорине сказано: «Небольшого роста, широк в плечах и вообще нескладен… лицо смуглое, неправильное». Неслучайно в «Герое нашего времени» пришлось назначить ему внешность чиновника Красовского — тонок в кости, высок, бледен, блондинист. Иначе непонятно, с чего бы в него стали влюбляться женщины.
Остроумие, эполеты и умение сочинять стихи тоже позволяют добиваться успеха, но это, так сказать, успех второго сорта, вроде как о женщине говорят, что у неё красивые глаза или красивые волосы. Это заставляло Лермонтова страдать, делало его мрачным и желчным. Всё-таки он был очень молод.
О том, какая это сложная штука, чтобы два человека — одновременно! — полюбили друг друга, затевалась «Княгиня Лиговская». Краткое содержание: «Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. Мне не везёт в этом так, что просто беда». Ужасно жаль, что роман не дописан, интересно, как бы там расплёлся сюжет. С другой стороны, понятно, почему не дописан. В нём чувствуется влияние петербургских повестей Гоголя (быть современником Гоголя и не писать, как Гоголь, означало либо быть болваном, либо выпендриваться) и вместе с тем — некоторая повествовательная монотонность (при всей отточенности стиля). А он быстро перерастал пору ученичества — быстрее, чем писался роман, и, главное, тема становилась ему тесна.
«Страсти не что иное, как идеи при первом своём развитии: они принадлежность юности сердца, и глупец тот, кто думает целую жизнь ими волноваться: многие спокойные реки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачет и не пенится до самого моря. Но это спокойствие — часто признак великой, хотя и скрытой силы; полнота и глубина чувств и мыслей не допускает бешеных порывов…»
Лермонтов эту силу в себе уже ощутил. Слова эти, вложенные в «Журнал Печорина», Печорину не принадлежали. А «Княгиня Лиговская» была дописана потом, в своё время, — другим писателем. Но об этом потом.
Кстати, реки, начинающиеся с бурных потоков, — это уже типично кавказское наблюдение. Уж не война ли заставляла его так быстро взрослеть? Впрочем, новый роман содержит в себе едва ли не ещё больше «принадлежностей юности сердца»; если отвлечься от всего, что нам теперь уже известно о «Герое нашего времени», и взглянуть на него незамутнённым читательским взглядом, о чём получится этот роман? Что формирует характер его героя? Страх женитьбы и уверенность в невозможности личного счастья!
Ну, а что вы хотите, автору двадцать шесть…
Недаром же «образ Печорина» так лёг на сердце школьникам. Учителя им талдычат, что Печорин — лишний человек и выражает кризис дворянского этапа освободительного движения, а душа так и тянется к нему, так и рвётся!.. Бледный… гордый… умнее всех… Как побороть ощущение, что Печорин — это ты?!
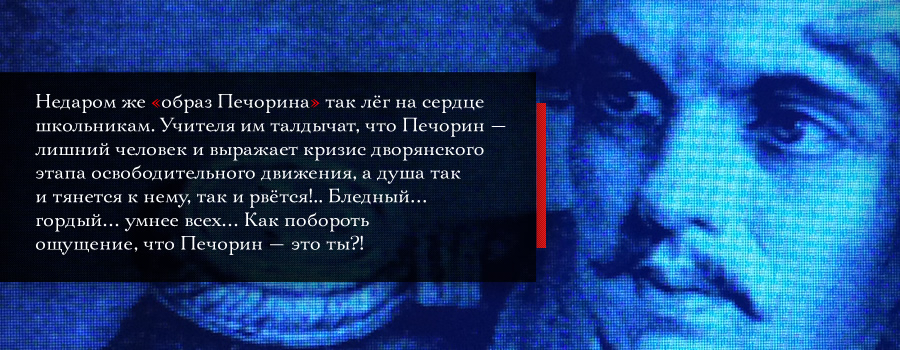
«Все читали на моем лице признаки дурных чувств, которых не было; но их предполагали — и они родились. Я был скромен — меня обвиняли в лукавстве: я стал скрытен. Я глубоко чувствовал добро и зло; никто меня не ласкал, все оскорбляли: я стал злопамятен; я был угрюм, — другие дети веселы и болтливы; я чувствовал себя выше их, — меня ставили ниже. Я сделался завистлив. Я был готов любить весь мир, — меня никто не понял: и я выучился ненавидеть… В груди моей родилось отчаяние — не то отчаяние, которое лечат дулом пистолета, но холодное, бессильное отчаяние, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой».
Это же манифест пубертатности!
Правда, предваряет его ремарка: «Я задумался на минуту и потом сказал, приняв глубоко тронутый вид…» — но кто же обратит на это внимание?
«Тронутый» означает взволнованный. «Приняв» — значит «притворившись». Печорин это говорит, чтобы задурить княжну. Знает, на что падки подростки.
И Лермонтов тоже знает, иначе с чего бы стал давать своему роману такое публицистическое, прямо-таки рекламное название?
— Не секрет для малышей, что боится кот…
И малыши, счастливые, в едином порыве орут: «Мышей!..»
Автор в предисловии открытым текстом предупреждает: игра нечистая, «портрет героя составлен из пороков», а девочки закусывают губу, а мальчики хмурятся, сжимают рукояти деревянных сабель и пистолетов.
Нечто похожее было с комедиями Чехова, над которыми публика элегично рыдала вместо того, чтоб смеяться. Чехов в них высмеивал свою аудиторию, а у той в голове не укладывалось, что можно смеяться не над кем-то другим (дворником, лакеем, евреем, пьяницей, купчиной, городовым, американцами, кровавым режимом), а вот прямо непосредственно над собой. Над собой не смешно смеяться, ничего смешного. То, что применительно к другим вызывает смех, применительно к себе кажется весьма трогательным. «Многоуважаемый шкаф!..» Ну да. А как же иначе?
С одной стороны, «Герой нашего времени» — это как бы шаг назад по известной нам шкале «классицизм — романтизм — реализм» даже по сравнению с «Княгиней Лиговской»: там прослеживаются черты социально-бытовой драмы, а тут сплошная романтическая экзотика и противопоставление романтического героя-одиночки среде, по рецепту. А с другой стороны, романтический-то герой должен быть положительным, ну, жертвой обстоятельств хотя бы, а тут всё наоборот: не жертва, а палач, и ладно бы за дело казнил, так ведь нет — из-за несоответствия людей своим эстетическим воззрениям, а то и вовсе со скуки. Главное-то наизнанку вывернуто.
Постромантизм получается.
«Пост-» — значит пресыщенность методом. Постмодернизм — пресыщенность модернизмом с его уверенностью, что наука либо искусство (которое тоже — «средство познания») всё одолеют, до самых основ, до первочастиц природы человеческой докопаются. Значит — разочарование, разуверенность в том, что мир устроен, как мы думали. Разочарование в идеологии романтизма, например. Демонстрация тщетности бытия романтического героя.
Знаменитая сентенция Печорина: «Я вступил в эту жизнь, пережив её уже мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему известной книге» — это не что иное, как вывернутое пафосом внутрь изречение столпа романтизма Новалиса: «Мир существует, чтобы войти в книгу». Сонмы гуманитариев на протяжении двухсот лет вертели его на языке и так, и этак (от «Язык — дом Бытия» Хайдеггера, до «Бессознательное структурировано как языковая деятельность» Лакана): «Мир как текст! Мир как текст!..» Счастье-то какое, товарищи!.. А Печорин смотрит на них всех, как на… ну, вы понимаете.
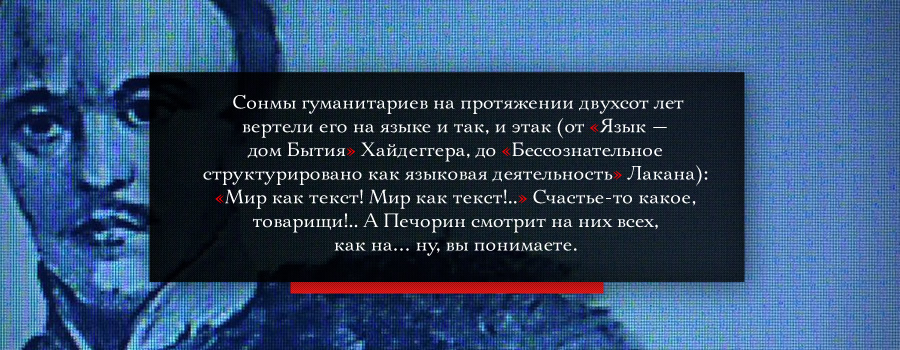
Была недавно в ходу поговорка: «У каждой эпохи — свой постмодернизм». Дескать, это явление не историческое, а, так сказать, структурное — «стадия насыщения системы» (такое состояние системы, когда независимо от инвестиций в неё — интеллектуальных ли, прочих ли — эффективность системы расти перестаёт и даже снижается). В данном случае система — это картина мира и творческий метод. Так вот, в этом смысле роман Лермонтова весь как есть — постмодернистский. «Ремейк», «аллюзия», «перекличка». Правда, с «прирастанием смысла» (что в современном нам постмодернизме вовсе необязательно): Пушкин обрисовал тип, а Лермонтов его объяснил. «Почему мы такие».
Лермонтов ведь не только фамилию героя с пушкинского «Онегина» перепёр, но и саму тему, которую мы было «юности сердца» приписали, — отвращение к браку и неверие в возможность личного счастья. Сюжет «Евгения Онегина» — это сказка о Лисице и Журавле: пришла Татьяна к Онегину, а тот ей: «Нет, я не создан для блаженства, ему чужда душа моя, напрасны ваши совершенства, их вовсе недостоин я». Ладно, живём дальше. Приходит Онегин с Татьяне: «Я думал: вольность и покой — замена счастью, боже мой! Как я ошибся, как наказан… Пред вами в муках замирать, бледнеть и гаснуть — вот блаженство».
Ну и, соответственно, Печорин: «Как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости любовь! Моё сердце превращается в камень… Я готов на все жертвы, кроме этой; двадцать раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту… но свободы моей не продам». (Это вольности, значит, замена счастью которая.) И дальше: «Отчего же я так дорожу ею? Что мне в ней?.. Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего».
И вот тут начинается объяснение.
«Мир как текст» — так говорит тот, кто, как ему кажется, властвует над текстом. А значит, через него и над миром (ну, раз мир тексту подобен, а не наоборот). Этот человек прозревает в мире его «структуру», овладев которой, можно властвовать над людьми и явлениями (вернее, понимать их, но, с точки зрения «человека текста», понимать — это и есть властвовать).
Ровно это и делает Печорин: видит всю нехитрую структуру человеческой психологии (потяни за эту ниточку — получишь такой результат, потяни за другую — этакий) и заставляет людей делать то, что ему угодно. Будь он кабинетный теоретик, «человек текста», он упивался бы такой способностью: эва, теория воздействует на практику! Часто ли увидишь такое?.. Но он практик, и от предсказуемости результатов ему скучно.
Печорину не хватает неподвластности мира его воле. Он в этой «структуре» узловой элемент, творец обстоятельств — и испытывает одиночество творца. Жить для него — всё равно что играть с самим собой в шахматы. Его жизнь зависла в «стадии насыщения»: независимо от «инвестиций в систему» (влюбить в себя одну княжну, похитить другую, «в другом жанре» — и так далее) интерес к ней только снижается. Интриги нет, элемента непредсказуемости. Чуда.
И вот ключевой абзац романа — быть может, один из лучших по высоте абзацев в русской литературе:
«Я возвращался домой пустыми переулками станицы; месяц, полный и красный, как зарево пожара, начинал показываться из-за зубчатого горизонта домов; звезды спокойно сияли на темно-голубом своде, и мне стало смешно, когда я вспомнил, что были некогда люди премудрые, думавшие, что светила небесные принимают участие в наших ничтожных спорах за клочок земли или за какие-нибудь вымышленные права!.. И что ж? эти лампады, зажженные, по их мнению, только для того, чтобы освещать их битвы и торжества, горят с прежним блеском, а их страсти и надежды давно угасли вместе с ними, как огонек, зажженный на краю леса беспечным странником! Но зато какую силу воли придавала им уверенность, что целое небо со своими бесчисленными жителями на них смотрит с участием, хотя немым, но неизменным!.. А мы, их жалкие потомки, скитающиеся по земле без убеждений и гордости, без наслаждения и страха, кроме той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбежном конце, мы не способны более к великим жертвам ни для блага человечества, ни даже для собственного счастия, потому знаем его невозможность и равнодушно переходим от сомнения к сомнению, как наши предки бросались от одного заблуждения к другому, не имея, как они, ни надежды, ни даже того неопределенного, хотя и истинного наслаждения, которое встречает душа во всякой борьбе с людьми или судьбою…»
И дальше — как раз про жизнь, прожитую в уме, и дурное подражание книге.
Мир без Бога — это сплошной постмодернизм, девочки, из-за этого все ваши беды.
осхитительно грамотен конец романа, когда после вершин, где холодно и опасно, автор возвращает нас к Максиму Максимычу с его чайником (право, уж не приходится ли предком лермонтовский «Кавказец» товарищу Сухову?) и тот бубнит что-то заземляющее, примирительное про короткие приклады и паршивые курки — «больше я от него ничего не мог добиться: он вообще не любит метафизических прений».
Конец
Очень незатейливый внешне, но внутренне сложный и как бы это — насыщенный? — роман, по чувству композиции близкий к гениальному, взять хотя бы главу «Тамань» — зачем она? Мы знаем, что последовательность событий и последовательность глав романа разная, Печорин возникает издалека, в рассказе максимально далёкого от него человека, потом чуть приближается — «покажи личико», потом раскрывается на страницах «журнала», где «Княжна Мери» отвечает за контент и действие, а «Фаталист» — за философию и мораль. Но «Тамань»-то зачем?
А она дико важна. Но в искусстве же важны не только слова, важны паузы между словами, собственно, поэзия — это паузы и есть, словами они только обозначаются; в музыке и вовсе нет смысла, который стоило было бы передавать словами, однако музыка зачем-то нужна и, откровенно говоря, литература ровно настолько является литературой, а не утомительным говном, насколько в ней есть музыка. «Элемент непредсказуемости» и «чудо».
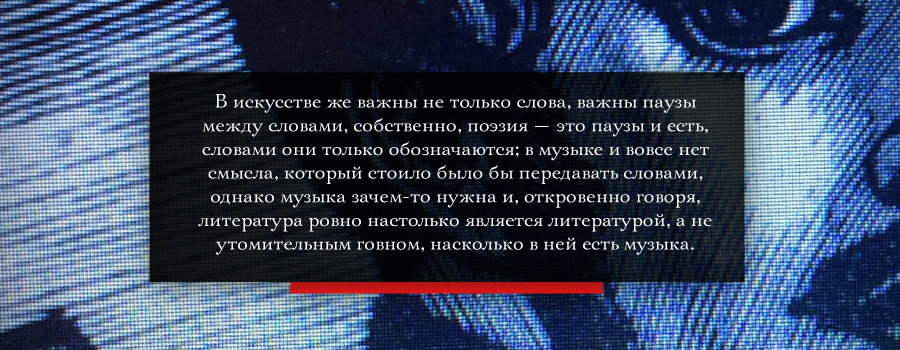
Да, кстати, я собирался сказать о том, кто дописал «Княгиню Лиговскую». Это был Лев Толстой. «Анна Каренина» называется.
Не то чтобы Толстой вдохновлялся Лермонтовым, конечно. Тут другое… Когда читаешь «Княгиню…», не покидает чувство, что эта атмосфера, эта расстановка фигур тебе знакома, где-то ты её уже видел. А вот именно в «Карениной» и видел!
Лермонтов двигался такими семимильными шагами (между непременной подражательной Вальтеру Скотту повестью «Вадим», «Княгиней Лиговской» и «Героем…» великанские расстояния, а жизни всего-то по паре лет) — так быстро взрослел, что трудно представить, насколько грандиозный писатель мог бы из него получиться, повзрослей он и вовсе.
Может, Лермонтов потому и погиб: провидению нужно было, чтобы Толстой и Достоевский не затерялись в его тени.
Говорят, история не знает сослагательного наклонения. Но кто-то же должен знать?
Иногда мне кажется, что все образы и сюжеты произведений искусства не придуманы писателями, не взяты ими «из жизни», а на самом деле где-то существуют, в какой-то своей особой реальности. Как игрушки в магазине: когда продавцы и дети расходятся, они спускаются с полок и начинают жить своей настоящей жизнью. (Для полноты картины представим ещё, что игрушки не знают того, что предназначены для игры; мы — это их сон, а кто же всерьёз воспринимает сны?)
От той неведомой нам реальности, из которой пришли в нас мир образы искусства, мы видим только кусочек — подогнанный под удобство восприятия, упрощённый. Приехала под музыку Таривердиева Надя к Жене, привезла веник — и все счастливы. А что дальше? Поженятся или нет? Где будут жить, в Москве или Ленинграде? У надиной мамы или у жениной? Это же важно… Для них.
Или вот меня волнует вопрос: как мог Анатолий Ефремович Новосельцев решиться на служебный роман с Мымрой, если он: а) робкий и нерешительный и б) хороший ? Где правда обстоятельств, правда характера? Помните с каким отчаяньем ломится он к Мымре на приеме у Басилашвили? Ему же не просто «неудобно» — ему смертельно плохо, он сам себе противен, он насилует себя! И всё это — просто по совету приятеля? Ерунда какая-то. Мужчины на такое самоуничижение не способны.
И ещё одна ерунда: не могла жена Новосельцева бросить двоих детей, «устав от безденежья и вечной нерешительности мужа». Как-то это… «опереттошно». Что угодно могло произойти, любой ужас, но другой.
Сопоставив две этих ерунды, понимаем: а и не бросала Новосельцева никакая жена. Напротив, обрабатывала каждый вечер: у тебя сыновья растут! Каждому по кооперативу… И тогда, перед басилашвильским раутом, поставила вопрос ребром. Сделала какое-то предложение, от которого Новосельцев не смог отказаться. И он «переступил порог».
Именно жена подложила его Мымре! Вот почему он так упорствует: «всё равно погибать», сзади заградотряд. Подложила — и оказалась наказана. Настоящая влюблённость в Мымру — психологически оправданный способ бегства от жены (с двумя-то детьми). Вот почему Мымра упорствует и рассказывает ему о подруге, увёдшей её возлюбленного. Не потому что «не верит в возможность счастья». А потому что Новосельцев женат и у него «мальчик и мальчик».
Есть косвенное доказательство того, что так и было. В мифе, помимо героя, должен быть трикстер. В цирковом представлении это клоун, пародирующий гимнаста. В киносценарии — какой-нибудь персонаж второго плана, пародирующий основной конфликт. В «Служебном романе» Немоляева в жутких розочках готова изменить мужу из-за вспыхнувшей влюблённости в Самохвалова; Ахеджакову бросает муж Фатюшин (линия почти целиком вырезана при монтаже). Но какую же коллизию они пародируют? Где она? То-то.
А вы, например, замечали, что у Жени из «Иронии судьбы» и Юрия Деточкина из «Берегись автомобиля» не только одна мама и один неженатый возраст, но и одна манера морщиться, заглядывая в пивную кружку? Ещё прокол, через который сквозит из того, настоящего, мира искусства, в котором Юра и Женя — это один человек.

Или вот Ипполит из «Иронии судьбы». Что мы знаем о нём? Упакован, «хорошо имеет от жизни», своя машина, французские духи — завидный жених, но почему-то до сих пор холост. Более того, в отношениях с женщинами явно неблагополучен, оттого и ревнив. Прослеживаются следы былой личной травмы. Из его монолога под душем («Конец Новогодней ночи, завтра наступит похмелье — пустота-а…») явно следует знакомство с опытом подобных похмелий…
Приквелом Ипполита является Шура Бочкин из фильма «Лёгкая жизнь». Он был подающим надежды химиком, но не поехал по распределению на строительство химкомбината, а остался в Москве и устроился директором химчистки. Основательный был. Практический. Променял романтику на рубли. Но — влюбился. В приезжую учительницу из Сибири. Прекрасную, советскую, романтичную. Стеснялся признаться ей, кем работает. Чтобы стать достойным своей возлюбленной, бросил химчистку, завербовался на химкомбинат. А возлюбленная возьми да окажись обманщицей. Ей хотелось не любви молодого талантливого учёного, а в столице за богатым мужем остаться. Ну и бросила его. С рваной раной в душе Шура едет на комбинат один, фильм на этом заканчивается. Но что было дальше? На самом деле?
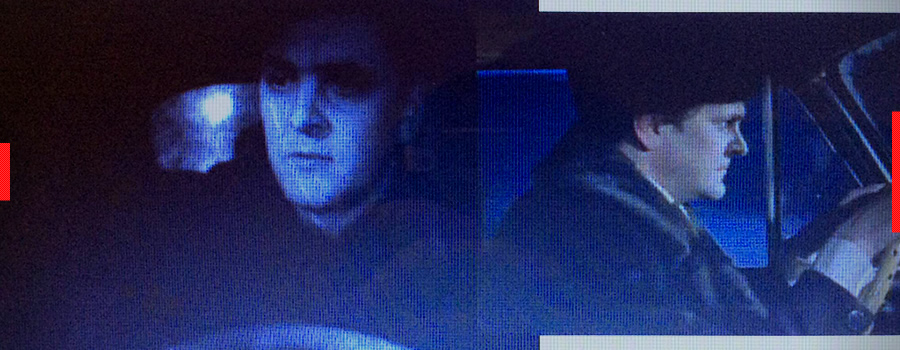
Пожалуй, он и правда уехал, ведь химчисткой уже заинтересовалось ОБХС, удирать надо было. Но, поскольку с любовью вышел облом, Шура так и остался «человеком практическим»: что ему тот комбинат без любимой учительницы? После непродолжительного инженерства дослужился до должности в главке да и вернулся в столицу. (Правда, уже культурную, Северную.) Стал жить-поживать да добра наживать. А в личном — сквозняк, дыра… И когда он во второй раз встретил УЧИТЕЛЬНИЦУ Барбару Брыльску… Ну, вы понимаете, что тут началось — на старые-то дрожжи.
Фактически под душем Ипполит говорит: «Взгляните на меня, жестокие, наивные люди! Я тоже думал, что можно переломить жизнь, подставить голодные ноздри ветру, нахвататься чужого счастья… И что теперь? Пустота-а…»
Так истории из «произведений искусства» превращается в драму, в жизнь.
В повести писателя Е. Хамар-Дабанова (который был на самом деле женой генерала Николая Лачинова) «Проделки на Кавказе» есть такой эпизод. В ставропольской гостинице «Найтаки» (она же — благородное собрание и офицерский клуб) является Грушницкий. Общество удивлено: как, вас разве не-е-е… Грушницкий вздыхает: «Вот, однако же, каковы люди! Желая моей смерти, они затмились до того, что не поняли всей тонкости Печорина. Как герой нашего времени, он должен быть лгун и хвастун, поэтому-то он и поместил в своих записках поединок, которого не было…»
А я вот думаю. Если не было поединка между ними, было ли тогда вовсе разделение на двух человек — на Печорина и Грушницкого? Не одно ли это существо? Типа Джекил и Хайд, Инь и Ян, правая и левая сторона?
Потому что в «Анне Карениной» он, этот персонаж, один — Вронский. В финале, отправляясь в Сербию искать смерти, — скорее Печорин, в Италии, когда рассуждает об искусстве, к которому глух, — скорее Грушницкий. Продинамил Китти, погубил Анну — Печорин. Разговаривает о лошадях, с потешной мужественностью внутренне готовится к дуэли с Карениным — как есть Грушницкий. И так далее.
В заключение (ибо ночь и очень хочется спать, а не ибо Лермонтов всё) хочется сказать — юбилейное. (В этом-то году ему двести лет исполняется.) Дорогие граждане! Не повторяйте вы, пожалуйста, эту чушь, что Лермонтов был шотландцем!
Ни хрена он никаким шотландцем не был. А изобрёл себе шотландского предка под впечатлением от Вальтера Скотта (которым Печорин даже в ночь перед дуэлью забывается: до того автор его любил). Вон, папаша его свою фамилию вообще от испанцев вёл. А происходил небось, как все, — от мери и жмери.
Или как оно там всё называется.
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!










[…] читайте: Кино и Лермонтов — Лев Пирогов о Михаиле Юрьевиче […]