БГ и народ
Артем Рондарев о Борисе Гребенщикове

огда у нас кому-либо зачем-либо приходит в голову искать претендентов на звание «русских the Beatles», то чаще всего на эту должность назначается группа «Машина времени» (прежде, было дело, в подобном качестве презентовался бит-квартет «Секрет», но это было временное помутнение; иногда особенно изощренные знатоки нашей сцены называют «русскими битлз» группу «Сокол», но так как о группе «Сокол» никто ничего толком не помнит, то это утверждение проходит по разряду экзотики). Группа «Машина времени» представляется идеальным кандидатом на данное звание, так как считается (небезосновательно) первой группой, решившей петь песни собственного сочинения на родном языке и добившейся в связи с этим изрядной славы и положения «главной группы» советской и постсоветской рок-н-ролльной сцены. В почтении к «Машине времени» расписывается практически любой наш рок-музыкант из тех, кто не желает выглядеть Иваном, не помнящим родства, и даже ироническое отношение многих к собственно творческому наследию «Машины времени» не мешает оценивать вклад последних в развитие нашей рок-сцены как решающий. Ну а у кого вклад решающий, тот и «битлз», понятно.
Между тем любые попытки выйти за рамки чисто исторической аналогии очень быстро приведут пытливого исследователя к тому, что, помимо хронологических заслуг, никакого особенного значения в нашей музыкальной традиции группа «Машина времени» не имеет. Никто не играет как группа «Машина времени», поэтическую манеру группы «Машина времени» – эту благонамеренную, изобилующую довольно поверхностными, очень очевидными метафорами сангвиническую притчеобразную графоманию – никто не наследует тем паче, стараясь, напротив, избежать вообще какого-либо подобия в данном вопросе с группой «Машина времени», потому что, конечно, строить рок-н-ролл на основе благонамеренности не станет даже самый полоумный человек, сроду ничего не слышавший ни о поэтике, ни о стилевых различиях.
В итоге после всех загнутых пальцев оказывается, что назначение группы «Машина времени» на должность «русских битлз» — в большей степени следствие формальной хронологии и чисто внешнего сходства, нежели сходства идеологического, исторического, эстетического или концептуального. «Машина времени» кажется похожей на «The Beatles» оттого, что там простая, очевидная музыка, достаточно прямолинейная манера исполнения и даже песни поет далеко не всегда один человек. Рой Орбисон, кстати, объяснял успех «The Beatles» (преимущественно у девиц, которые почти всегда составляют основу любого поп-культа) тем, что там мальчиков сразу несколько и на любой вкус – не нравится вам Джон – берите Пола; «и даже парням было чем поживиться, — говорит Орбисон, — они, по крайней мере, могли надеяться на встречу с Ринго». То есть, условно говоря, если прежде ветреные девушки, которым не нравился какой-либо певец, бежали искать нового, то здесь случился такой формат, при котором искать никуда бежать не надо было, достаточно было только перевести взгляд. Это обеспечивало стабильность фан-базы. То же рассуждение часто прилагается и к «Машине»: типа кто-то ходит на них ради Макаревича, кто-то – ради Кутикова.
Проблема, однако, в том, что все это хорошо выглядит только ретроспективно: в те времена, о которых идет речь, советских рок-музыкантов в лицо знали довольно немногие; музыка преимущественно распространялась посредством магнитофонов, поэтому любить конкретных исполнителей за то, что у них сексуальные бедра, было, в общем-то, некому. В мое школьное время, собственно, никто не знал, что в группе «Машина времени» поет не один человек; мы полагали, что это у Макаревича такой талант — иногда петь высоким голосом «в нос», иногда мужественно сипеть и реветь, а иногда подвывать очень ироническим как бы баритоном. То, что «Поворот» поет Кутиков, – выяснилось только тогда, когда я пошел в десятый класс.
То есть идея в том, что все сходства группы «Машина времени» с «The Beatles» – они придуманы задним числом. Единственной очевидной заслугой Макаревича с товарищами в этом смысле является тот факт, что они просто своим примером показали: на русском языке играть и петь можно. Это большая заслуга, кто спорит, однако если вернуться к нашей аналогии с «The Beatles» и британской поп-сценой, то окажется, что «Машина времени» выполнила роль скорее Лонни Донегана, который обучил толпу пролетарских британских подростков (и в том числе Леннона с Маккартни) тому, что с помощью гитары, стиральной доски и рудиментарных музыкальных навыков можно самовыражаться и даже зарабатывать деньги. Лонни Донегана в Британии за это тоже очень уважают, но с «The Beatles» все же не сравнивают.
А что, собственно, сделали для британской поп-сцены «The Beatles»?
Когда вам начинают рассказывать про их революционный подход к записи, невероятный сплав стилей на «Сержанте Пеппере», пионерскую роль песни «Everybody’s Got Something to Hide» в эволюции хард-рока, – вы это все смело пропускайте мимо ушей: дело даже не в том, что заслуги там довольно спорные, а скорее в том, что никогда еще в истории поп-музыки за пионерские заслуги в деле звукозаписи, развития хард-рока и «упорную работу в студии» ни одна группа в пантеон не попадала. Люди в массе своей не любят экспериментов и, как следствие, любым оглашенным экспериментаторам предпочтут того, кто все то же самое изложит понятным и не очень мудреным языком.
Так вот именно это и сделали «The Beatles». Эти парни, при их очевидном таланте, по всем техническим и социальным параметрам уступали своим коллегам-современникам: «The Rolling Stones» были лучшими исполнителями, «The Kinks» были лучшими хулиганами, «The Animals» лучше секли в блюзе, а кроме того, были похожи на оживших утопленников, что на рок-сцене только плюс; даже в группе «The Dave Clark Five» барабанщик стучал лучше, чем Ринго, и лучше пел. Единственное, что у них получалось ярче всех, — это писать «красивые сложные песни» и создавать для них подобающий антураж. Когда они записали «Yesterday», то Маккартни чувствовал себя неловко: они вроде бы рок-группа, а тут прям струнный ансамбль какой-то. Однако по выходе песня оказалась ошеломительным хитом, и вот по какой причине: приличные люди среднего класса, даже не молодежь уже, то есть – стандартная аудитория оркестров в жанре easy listening, внезапно увидели, что среди этих волосатых, играющих свою громкую гадкую музыку, тоже есть люди, пишущие хорошие мелодичные песни!
То есть попросту: заслуга «The Beatles» в том, что они из маргинальной молодежной музыки сделали почтенное респектабельное мероприятие, которое не стыдно слушать никому: ни взрослым, ни их детям. Это расширило аудиторию рок-н-ролла в разы; это показало остальным, как можно завоевывать публику; это, а не что-то другое и есть главный вклад «The Beatles» в эволюцию рок-н-ролла.
Ну так что? Есть у нас подобное явление?
Разумеется, есть.
ставляя даже в стороне неоднократные признания Гребенщикова в том, что более всего на него повлияли «The Beatles» – кто в этом только ни признавался, — можно обратить внимание хотя бы на то, что музыка «Аквариума», собственно, даже технически и эмоционально сходна с музыкой Битлов: та же склонность к положительному высказыванию, та же частая мажор-минорная неопределенность и амбивалентность гармонического склада, тот же довольно анемичный в целом ритмический рисунок и заметное отсутствие «драйва», то же очень точное и аккуратное, как по нотам, музицирование (недаром на этом фоне так сильно выделялось безумное, неочевидно структурированное фортепиано Курехина), та же склонность к песенным формам за пределами стандартной рок-парадигмы (от народных до эстрадных), те же технические приемы, наконец, причем со временем – все более отчетливо те же: фанфары в «Капитане Беллерофонте» четко ссылаются на «All You Need is Love», флюгельгорн в «Слове Паисия Пчельника» точно так же, как и валторна в «For No One», утрированно имитирует барочную трубу. То есть, если искать человека, который точнее всего понял и перенес на нашу почву именно музыкальное своеобразие «The Beatles», то это, конечно, будет БГ.
«Слово Паисия Пчельника»
Но мы, однако, договорились, что в случае «The Beatles» не столько в музыке дело. Так вот, в случае БГ, разумеется, — тоже.
ейчас, когда любовь к БГ универсальна и повсеместна и в ней признаются самые разные люди – от брутального писателя Прилепина до рафинированной студентки филфака, — уже, видимо, мало помнится, кто именно поставил его на этот пьедестал. А поставили его туда хиппи конца 80-х – очень характерная в социальном смысле среда, в которой почти все мальчики были, что называется, из приличных семей, а девочки были из приличных семей просто все. Причем – и это было очень хорошо заметно – по мере увеличения в каждом из участников этого движения градуса неприличия – попадались там и гопники, и серьезные, сидевшие наркоманы, и просто шпана – пропорционально убывала в людях любовь к БГ. Хиппи вообще были весьма гетерогенной средой, где люди, помимо общей принадлежности к движению, еще примыкали и к каким-то внутренним кругам, часто друг с другом враждующим и объединенным каким-либо одним идеологическим вывертом, хотя и не ставящим под сомнение хипповскую ортодоксию, но по-своему ее интерпретирующим.
Так вот, чем менее склонным к романтическому, сентиментальному, «приличному» мировосприятию был тот или иной кружок, тем менее в нем любили БГ, предпочитая ему Кинчева, Цоя, «Led Zeppelin» и группу «ДК». Гребенщикову и «Аквариуму» тогда многое вменялось в вину – от плагиата до сотрудничества с КГБ (в то время это была универсальная паранойя), — но на деле претензии сводились к одному: БГ был слишком приличным. В итоге сложилось мнение (часто даже звучавшее вслух), что «Аквариум» – это, как говорят в фильмах Скорсезе, for pussies.
Собственно, именно данный факт и сделал его несравненно более, нежели остальных вышеперечисленных, популярным.
Потому что хиппи – это, в целом, было движение очень приличных, уютных, склонных к моральной чистоте людей. Да, там были свои радикалы, но их было немного и они быстро маргинализовались путем присвоения им разных статусов: в частности статус «олдовых» и работал по факту как способ маргинализовать людей, с которыми невозможно по-другому договориться. Повестку же, как сейчас принято говорить, формировали не они, а мейнстрим движения, то есть те самые тихие, романтичные, «приличные» и довольно рафинированные молодые люди. Настолько рафинированные, что группа «Машина времени», например, считалась среди них плебейской музыкой.
Влияние хиппи на культуру постсоветской России в целом оказалось минимальным, за одним-единственным исключением: в рок-н-ролле оно было очень серьезным, если не решающим. Уж что-что, а заметную (и социально приемлемую) фан-базу хиппи создать умели; поэтому, когда наша пресса начала писать о рок-музыке, сведения она стала черпать именно из этой среды. Хиппи в массе были посредственными художниками, плохими поэтами и не очень талантливыми музыкантами; но как поклонники поп-культуры, притом, что называется, literate-поклонники, экспертного совета которых по этому вопросу внешний мир всегда мог спросить и немедленно его получить, хиппи оказались много лучше других. И их кумир БГ стал кумиром всех остальных.

оэтика Гребенщикова, в основе которой лежит не логическое высказывание, а ассоциативное, дискретное, иррациональное перескакивание внимания в рамках очень абстрактной поэтической ткани с фразы на фразу (подобным приемом часто пользовалась, например, группа «The Clash»), позволяет БГ генерировать своего рода лозунги в исключительно большом количестве: то, что в обычной поп-песне зарезервировано за припевом (или бриджем), та строка, что заседает в памяти слушателя и окрашивает ретроспективно смыслом всю остальную пьесу («Достань гранату — и будет праздник», «Хочешь — я убью соседей, что мешают спать», «Не взлетим, так поплаваем», если не ходить далеко за примерами), у Гребенщикова рассыпано по всему тексту – практически любую его строку можно выдернуть из контекста (благо рационального контекста у нее и нет) и сделать самостоятельным высказыванием. Это создало ему славу мудреца и провидца, при том, что механизм тут довольно простой и не очень новый: можно тут вспомнить берроузовскую технику cut up, можно вспомнить кейджевскую chance music (придуманную, кстати, под прямым влиянием книги «И Цзин» и фроммовской интерпретации дзена), можно, собственно, вспомнить и сами дзеновские коаны, хотя это сравнение уже набило оскомину, можно же говорить о целой системе мышления (которой дзен является одним из самых ярких образцов), основой которой является антирационализм.
Антирационализм как метод — вещь очень хорошая, но у нее есть один существенный изъян: эстетику, основанную на антирационализме, приходится очень сильно принимать as is, то есть – чисто на веру. Если вы не верите какому-либо Учителю, более того, если вы не верите ему априорно, по какой-то причине, наступившей прежде вашего с ним общения, то предложение услышать хлопок одной ладони вызовет у вас только скуку, как заведомо абсурдное: западные люди вообще очень быстро начинают скучать там, где им не видна система, где их прогностическая составляющая интеллекта засыпает, так как ей нечем поживиться. Вся музыка, вся поэзия стоят на оправдании или опровержении слушательского прогноза; все то, где заведомо нельзя сделать прогноз, нуждается в дополнительных подпорках, ежели рассчитывает на слушательский интерес (это, кстати, в свое время понял Булез, после всех своих радикальных экспериментов). Таким образом, люди, работающие с антирациональными приемами, существуют в публичном пространстве по большей части за счет репутации, созданной им каким-то внешним источником: газетами, господдержкой или некогда сложившейся конъюнктурой.
Конъюнктура, которая создала БГ (не нужно тут кривиться от слова «конъюнктура», я его использую без негативных коннотаций), состояла в том, что он в своих песнях точнее всего воплотил идеологию тогдашнего среднего класса, скептически настроенного по отношению к доктрине СССР.
Доктрина СССР, если отбросить ее ритуальные ссылки на марксизм-ленинизм, звучала очень просто: «Мир познаваем и объясним» (собственно, доктрина материализма и частного его случая — марксизма — начинается ровно с этого же постулата). В данном утверждении нет ничего порочного, это подлинный гимн человеческому интеллекту; однако позднесоветское диссидентское представление о том, что все, утверждаемое советской властью, есть ложь, притом ложь заведомая, сделало данное высказывание частью враждебной идеологии. Таким образом, представление об объяснимости мира не как об онтологии, но как об идеологическом конструкте сформировало контридеологию хиппи, в которой сама идея познаваемости мира была поставлена под подозрение как нечто безусловно «советское».
Гребенщиков, с его очевидно не-декодируемыми с первого раза (а часто – и с десятого) песнями, пришелся как нельзя кстати. Я помню разговоры того времени: вот Кинчев поет «Красные кони топтали рассвет», он очень очевиден, а вот Гребенщиков тоньше – «Есть только северный ветер, и он разбудит меня» (передаю эту фразу почти дословно, ее при мне произносил мальчик с амбициями писателя). «Тоньше» — подразумевалось «так, что сразу непонятно»; «так, что можно вчитать что угодно свое», «так, что остается простор для воображения и интерпретации». Молодые люди того времени дико устали не только от того, что все вокруг объяснимо, но – в первую очередь — от того, что все кругом им объясняют авторитетные люди. БГ, который не объяснял решительно ничего, был в этом смысле глашатаем нового мира: мира, где каждый человек будет все понимать так, как он хочет, и не будет больше догм, универсально объясняющих все для тебя и за тебя.
«Аделаида»
Разумеется, очень скоро БГ стал новой догмой. Это вообще судьба всех ниспровергателей догм, вспомните Лютера.
конечном итоге любой бунт против рационализма в западной парадигме является бунтом против сугубо присущей западному стилю мышления телеологии: той телеологии, в рамках которой художник сперва создает замысел произведения, а потом с помощью инструментальных навыков замысел этот воплощает; и даже в тех случаях, когда замысел этот сквозь магический кристалл различается плохо, – художник все равно примерно имеет представление о том, куда он собирается прийти, и модифицирует это представление в процессе создания произведения с помощью рациональных инструментов. Если совсем просто: западного художника в искусстве интересует результат; антирациональный бунт приводит к тому, что искусство начинает восприниматься как самоценный непрерывно длящийся процесс с непредсказуемым и часто не очень важным результатом.
В рок-н-ролле тоже есть свой не-телеологический стиль – это психоделия. Процесс ради процесса, притом — как процесс слушания, так и процесс, собственно, музицирования (послушайте какие-нибудь концерты «Grateful Dead», где Гарсия по десять минут дергает пару струн, или хотя бы соло Манзарека на «Light My Fire», где он почти пять минут переступает пальцами по двум-трем ладовым опорам, и вы поймете, о чем речь). Проблема, однако, в том, что психоделия – очень прикладной стиль: чтобы в нее врубаться как следует, нужно употреблять (и даже желательно – злоупотреблять). Вне рамок употребления и злоупотребления очень быстро становится заметно, что к музыке в ее западном понимании это все имеет очень опосредованное отношение (сходную претензию предъявляют к клубной музыке те, кто в клубы не ходит). У психоделии тоже есть цель, эта цель – наркотический транс, наведенный не только наркотиками, но и музыкальным сопровождением. Не впавшему в транс человеку переварить это бывает трудно.
А теперь представьте, что будет, если психоделию возвести в ранг догмы.
А будет очень простая вещь: поклонники этой догмы будут считать состояние транса социальным достижением. Высказыванием. Стэйтментом.
Теперь, если вы поглядите какие-нибудь концертные записи БГ (примерно год назад по сети ходила, например, запись, где на сцене плясали раздевшиеся по пояс девицы, а БГ со своим характерным отстраненным одобрением на это глядел), то вы, собственно, увидите там на лицах этот самый транс: люди считают своим долгом под музыку «Аквариума» отключиться, «выйти в астрал» и все такое. То есть вот это и есть результат той революции хиппи, которая въехала в историю на плечах «Аквариума»: рок-н-ролл был превращен в музыку для интеллигентных людей, интеллигентные люди же решили, что лучшим состоянием для человека в социуме является состояние транса. С этой импликацией выросло целое поколение фанатов БГ и «Аквариума» – поколение анемичное, эскапистское, то самое «поколение 90-х», о котором написано столько неприятных слов. То есть ровно столько же неприятных слов, сколько их написано в адрес оригинальных хиппи 60-х годов — самого бесплодного молодежного движения за всю историю молодежных движений.
То самое видео
Но все вышесказанное, разумеется, — лишь часть правды.
ребенщиков, при всем его образе интеллектуала (скорее индуцированном прессой и поклонниками, нежели выпестованном им самим), не владеет культурой – так, как владеют ею те, кто работает с ней профессионально, — а пользуется ею. Культура поставляет ему список имен личных и собственных, коды и триггеры, которые, щелкая в тот момент, когда он произносит их, создают из слушающих его песни — цельный народ. Цельность его обусловливается не только тем, что весь этот народ любит песни БГ, — она обусловливается в первую очередь тем, что все коды и триггеры, рассыпанные по песням БГ, ему, этому народу, не чужие. Даже те из его поклонников, кто едва ли читал Тургенева и из Пушкина помнит только про дядю самых честных правил, где-то когда-то (скорее всего, в школе) слышали, что у нас не только был Тургенев, но и то, что это почему-то для нас важно, – и запомнили (даже если им кажется, что нет и что не было в школе ничего хуже уроков литературы). И потом, когда Тургенев всплывает в текстах БГ, они поднимают голову, прислушиваются: Тургенев — это про нас, понимают они. Про каких-то таких нас, которые совсем не такие, как другие. Так Гребенщиков – именно в силу того, что он не владеет, но пользуется культурой, как не владеет, но пользуется ею и любой другой средний, далекий от культуры человек, — создает ту самую коллективную идентичность. Ведь культура, если быть честными, — это просто набор цитат, к которому приложены (скорее всего, школьными учителями) своего рода ценники: вот эта цитата особенно хороша, вот эта послабее, вот эта покажет в тебе остроумного человека, вот эта – человека русского. Культура – это то, что делает народ – народом; то, что формирует из него цельный, отграниченный от других организм. И Гребенщиков, при всех оговорках, в этом ракурсе оказывается самым что ни на есть народным (или, если угодно, — национальным) художником просто по той причине, что он употребляет культуру по ее прямому назначению, делая ее наиболее доступным среднему слушателю идентификатором.
(У этого утверждения есть несколько не очень приятных импликаций: в частности оно предполагает, что наша культура антирациональна и интеллектуально наивна – что, собственно говоря, так и есть, — но национальную культуру не выбирают за красоту лица, с ней живут и умирают как с данностью, и те, кто этого не понимает, просто живут и умирают вне культуры, только и всего).
замечателен еще и тем, что он и его поклонники живут в постоянном режиме взаимонепонимания и обеим сторонам это нравится (что, кстати, совершенно естественный способ существования антирациональных явлений). Например, Гребенщикову в принципе не свойственно прямое социальное высказывание: это видно по его песням, это видно по его интервью. Поклонники же его ждут социального высказывания: БГ — их кумир, их бог, они хотят, чтобы он объяснил им, как реагировать на то или другое в окружающей их жизни. Звезда Аделаида — это, конечно, хорошо, но что там с вопросом собственности на землю-то, а, гуру? Поэтому, когда у БГ внезапно выпевается нечто, что можно принять за прямое социальное высказывание, оно разлетается на цитаты в десять раз быстрее и дальше, нежели фразы людей, сделавших себе на социальном высказывании имя, вроде Кинчева. Потому что – наконец-то! потому что – вот оно! Сотни часов промывания словесной руды кумира не прошли даром, он объяснил, а мы поняли! И люди принимаются цитировать про панков, которые любят цветы, и землю, которую пора вернуть себе, не замечая, насколько редкое это дело в песенном наследии БГ; не замечая, насколько любовь к прямому социальному выказыванию БГ аналогична любви к «медлякам» металлических групп или «мелодичным песням» коллектива «King Crimson», то есть не замечая, что это любовь к тому, что не является содержанием творчества БГ, что в нем случайно, что не система, но сбой в системе; это попытка отыскать в «Анне Карениной» мелодраму, а в «Преступлении и наказании» — детектив (многие находят) — и, следовательно, любовь, искренне замешанная на непонимании своего кумира.
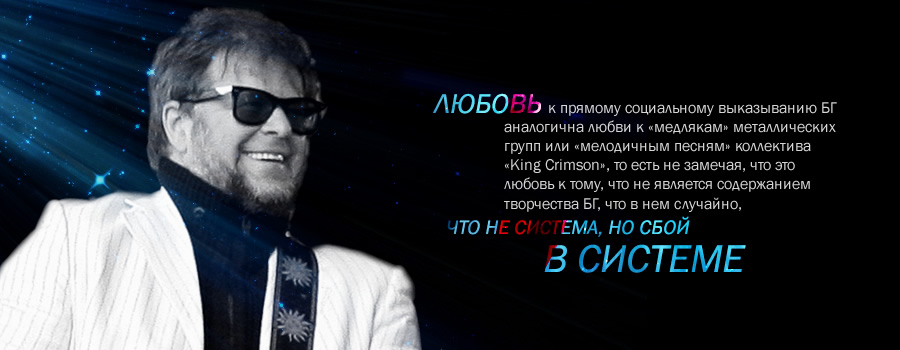
аконец, помимо прочего, абсурдистское начало поэтики Гребенщикова, опять-таки, прямым образом роднит его с «The Beatles» (а отсутствие этого начала у Макаревича с Кутиковым, в свою очередь, ставит крест на представлении о том, что наши «Битлз» — это «Машина времени»). Поэтика Битлов (поздних, когда они уже отошли немного от воспевания простых радостей первой любви) осциллирует между двумя полюсами: полюсом абсурда, то есть распевания цирковых афиш и песен про моржей, и прямого сторителлинга, который многими принимается за наивное социальное высказывание, – в диапазоне от «Rocky Raccoon» до номерных революций и возвращений в СССР. Ни о каких глупых скворцах и мудрых людях, разжигающих костер, чтобы обогреть других, «The Beatles» сроду не пели (ну разве что «The Fool on the Hill» сочинили, в память своего любимого Махариши), притчеобразность им вообще была в целом чужда – точно так же, как она чужда БГ (при том, что у него постоянно находят притчи). Антирационализм вообще очень четко характеризовал британскую сцену 60-х годов и еще сильнее характеризовал сцену американскую эпохи «британского вторжения», собственно, и породившую хиппи, которых мы потом успешно у них слизали. В этом смысле БГ – прямой наследник того времени и тех песен.
то касается музыки «Аквариума»: приходилось встречать утверждение, что «Аквариум» играет «этническую музыку», но к таким вещам не стоит серьезно относиться: у нас все, чему люди отчаялись подобрать определение, называют «этникой» или «фолком»; группу «Вежливый отказ» после долгих безуспешных попыток классификации записали в «этнический джаз», например.
У Гребенщикова, особенно в последнее время, есть просто отлично придуманные и сыгранные песни – типа «Огонь Вавилона», «Назад в Архангельск» или «Не коси» (я в курсе, что там на гитаре Мик Тэйлор). Тут надо понять меня правильно: в песнях этих нет решительно ничего оригинального, музыкальной оригинальности в БГ сроду не было, хотя те, кто упорно обвиняет его в плагиате, что называется, missing the point: Гребенщиков и не должен быть оригинальным, если бы он со своим талантом еще и в оригиналы подался, его бы подростки сейчас слушали не чаще, нежели Губайдуллину. Плагиат Гребенщикова лежит в той же плоскости, что и бесконечные цитаты из мировой культуры, рассыпанные по его текстам: еще одна цитата, только и всего; кроме того, «Led Zeppelin» интро к песне про лестницу в небо сперли – ну и что? Оригинальность художника — качество вообще сильно переоцененное. Тем не менее, возвращаясь к предыдущей мысли: у БГ очень много просто отлично придуманных и сыгранных песен; интересно тут то, что они все вместе не создают никакого «уникального звука БГ», скорее они производят впечатление вставных номеров в куда более традиционную для Аквариума «не-рокерскую» песенную последовательность. «Типичный БГ» — это «Гарсон №2»: элегический положительный как бы кантри как бы вальс (на месте кантри тут может быть мексиканский оркестр, чарльстон или даже чистая «песня под титры», в которой определенно угадываются бернесовские, впитанные с советскими фильмами о войне интонации, не суть; важно, что это все «не-рокерские» стили и манеры). И внезапно в эту положительную созерцательную атмосферу вторгается безупречный рок-боевик, регги или даже «хард-рок», как пишут в Википедии. Что, почему, зачем?
Данное наблюдение опять возвращает нас к тому, с чего начался весь этот разговор, а именно к утверждению о том, что БГ — это наш русский «Битлз». Если вы вспомните критерии, которые применяются к группе «The Beatles» в рамках ее репрезентации как величайшей группы мира, то едва ли не первым номером там будет идти уже упоминавшийся выше талант «раздвигать границы стилей». Талант этот усматривается в том пестром стилистическом калейдоскопе, который собой представляют их пластинки со времен «Сержанта Пеппера»; при этом выпускается из виду тот факт, что ответить по этим пластинкам на вопрос «Какую музыку играют «The Beatles»?» будет попросту невозможно. Это почему-то обычно считается хорошим признаком, хотя на деле вещь весьма двусмысленная по ряду причин, из которых первая уже названа выше – это обман слушательского прогноза. Люди очень редко садятся вообще-то слушать пластинки любимых исполнителей с желанием «узнать чего-то новенького»; напротив, они ждут «старенького» и очень огорчаются, когда старенькое не случается. Именно этот механизм лежит в основе ситуации с потерей фан-базы особенно радикально сменивших эстетику былых героев, но так бывает, когда группа меняет стиль в рамках разных пластинок, а что делать, ежели стиль меняется в пределах одной записи несколько раз?
«The Beatles» дали ответ и на этот вопрос: нужно стать культом. То есть таким явлением, в котором уже будет неважно, какой именно продукт делают люди, — важным будет только факт наличия нового продукта.
О том, что БГ среди своих поклонников причислен практически к лику святых, в этой перспективе упоминать даже как-то стыдно: вещь самоочевидная.
динственное отличие БГ от «The Beatles» (в рамках социокультурной аналогии, естественно, а не с точки зрения музыки) состоит в том, что «The Beatles» повлияли на все, а БГ – не повлиял ни на что. И это действительно проблема.
Суть ее в том, что у нас нет связной рок-н-ролльной сцены; каждое явление у нас – уникум, закрывающий (а не открывающий) собой целый стиль или хотя бы манеру исполнения. Цой отдулся за то, что у нас называется (без особенных оснований) «новой волной», «Наутилус» создал аналог «Roxy Music» – «арт-рока для простых людей», как это характеризовали на Западе. Больше всего людей подвизается в нашем уникальном стиле «бард-рока»: тут вам и все «Воскресенье», тут вам и больше половины Шевчука — и вроде бы этот самый «бард-рок» можно даже счесть нашим «национальным рок-н-роллом», кабы здесь было хоть что-то оригинальное, но оригинальностью тут не пахнет, Дилан с Коэном занимались (и занимаются) именно этим, то есть музыкой, в которой собственно музыкальное начало старательно спрятано за фасадом поэзии и меланхолии; так что и «бард-рок» (что бы под этим ни понимали те, кто данное понятие придумал) — это по большому счету попытка скрыть отсутствие связной традиции: какая традиция, такой и Боб Дилан, что называется.
По сути, проблема нашей рок-сцены в том, что она так и не стала народной: наша рок-сцена — это довольно очевидный аналог традиционной концертной организации, в которой люди стремятся заработать себе репутацию, соответствовать стандартам качества, не обманывать ожидание зрителя и так далее. На Западе это тоже долгое время было так (при том, что, в отличие от нашей страны, где рок-н-ролл был всегда деянием подпольным и героическим, на Западе рок-н-ролл родился и стал популярным именно как музыка, которую могут не только слушать, но и играть массы), но потом пришли панки и все исправили: как говорил Джо Страммер, панк отличается от паб-рока тем, что паб-рок — это «ребята, я свой в доску, я вам сейчас сыграю песни, которые мы все любим», а панк – это «я вам ща сыграю песни, и мне насрать, нравятся они вам или нет; я вам их сыграю даже в том случае, если вы их ненавидите». Вот до этого второго состояния, до состояния суверенной самоценности рок-высказывания, мы так и не дошли: рок-н-ролл у нас до сих пор существует в ранге искусства, то есть как вещь, подверженная капризам зрительского вкуса и конъюнктуре; и поэтому всякое явление в нем, которое заняло какую-то нишу, занимает ее целиком и навсегда. «Мы же не можем играть ска, ведь ска уже играли «Странные игры»!
В то время как рок-н-ролл, по существу своему, — это социальное действие, а социальному действию должно быть безразлично, насколько оно оригинально или же насколько оно сообразуется с ожиданиями зрителя: оно не для того делается, чтобы быть оцененным традиционными эстетическими критериями.

мериканский блюзовый музыкант и культуролог Элайджа Уолд (который, кстати, в соавторстве с Дэйвом Ван Ронком написал книгу воспоминаний последнего, легшую в основу сценария фильма братьев Коэнов «Внутри Льюина Дэвиса») в своем капитальном труде по истории поп-музыки с характерным названием «Как «The Beatles» уничтожили рок-н-ролл» (How the Beatles Destroyed Rock ’n’ Roll), утверждает, что Битлы, через обращение свое к «приличной белой аудитории», сделали рок-н-ролл коммерческим оружием в руках белых людей среднего класса (в подтверждение своей мысли он приводит, в частности, примеры того, как черные люди, пытавшиеся в 70-х годах петь музыку, маркированную как «белую», поп-прессой, составляющей чарты, интерпретировались как «ритм-энд-блюз» — что в то время непосредственно означало музыку «черную» – и, таким образом, выбраковывались из участия в основных чартах). БГ, в свое время сделавший ставку (надо думать, неосознанно) на тот же самый класс людей у нас, результат, в общем, получил сходный: именно с его помощью в первую очередь рок-музыка стала у нас восприниматься как занятие интеллектуальное, очень сильно ориентированное на текст, притом на такой текст, который надо слушать не по одному десятку раз, внимательно, чтобы в конце концов врубиться в его структуру и открыть в ней тайные смыслы (я знавал людей, которые крутили магнитофонную ленту задом наперед там, где у «Аквариума» на записи были пущенные задом наперед голосовые сэмплы, потому что ни одно слово Учителя не должно пропасть втуне!). То, что рок-н-ролл — это музыка и социальное действие, в данной схеме оказалось выпущено напрочь; а вместе с этим оказались выпущены из рок-н-ролльной аудитории и люди, которым рок-н-ролл был нужен не для внимательного благоговейного прослушивания, а чисто как фон для жизни (с каковой целью он, в общем-то, и придумывался). С тех пор идея, что «русский рок — это в первую очередь текст», стала делать свое неблагодарное дело, то есть фильтровать аудиторию по признаку склонности к бытовому интеллектуализму. Таким образом, если в эстетическом смысле БГ не повлиял у нас почти ни на что, то в вопрос идеологии зрительских предпочтений он привнес определяющую идею: о том, что рок-н-ролл — это музыка для умных. То есть сделал то же, что в свое время сделали с западной поп-музыкой «The Beatles». Просто на Западе все-таки был больший выбор, а у нас – до сих пор три-четыре титана: БГ, Шевчук, Кинчев да Цой, но он уже умер.
В итоге, когда парадигма сменилась, наш рок-н-ролл потерял вообще все. Сейчас, когда слушателю уже нет нужды тешить себя интеллектуальными эрзацами, когда сформирован запрос на музыку либо простую, либо «патриотичную», либо за жизнь, — место рок-н-ролла как социального комментатора у нас занял хип-хоп — явление не только антирациональное, но еще и антиинтеллектуальное (я в курсе наличия у нас рэпера Oxxxymiron, не нужно его в очередной раз расчехлять, рэпер Oxxxymiron — это именно типичная фантомная боль русского слушателя на том месте, где у него когда-то был рок-н-ролл).
Таким образом, если в будущем кому-то придет в голову писать историю постсоветской поп-музыки, то ее вполне можно будет озаглавить «Как «Аквариум» уничтожил рок-н-ролл».
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!









