Семя, племя, вымя, стремя
Лев Пирогов о Владимире Георгиевиче Сорокине

Сразу, пока не забыл. Нельзя писать о Сорокине, не употребив выражение «прекрасный стилист». Считается, что это похвала такая писателю. (Хотя вот, например, о музыканте или о художнике так не говорят. Художников обычно спрашивают, могут ли они нарисовать лошадь.) «Стиль — это человек», — говорил Луи Леклерк Бюффон, а значит, больше одного стиля в одном человеке вроде как помещаться не должно, если он только не пародист, не подражатель или не ученик, находящийся «в поиске своего стиля» (то есть, получается, себя самого). Ну да ладно. Главное я сказал.
одном старом чёрно-белом фильме печальный молодой человек писал школьное сочинение про счастье. Ну, там нужно было как-то связать это дело с созидательной и преобразовательной ролью труда в жизни общества, то есть счастье в том, чтобы кайлом грызть гранит, но юноша был рыхл, влюблён, задумчив и вытужил всего одну фразу: «Счастье — это когда тебя понимают».
И вся страна этому умилилась. К чёрту кайло, к чёрту жизнь общества. Давайте мяконькое, тёпленькое — своё. С точки зрения перспектив созидания и преобразования это было ужасно, конечно. Проглядели.
Что фактически сообщил нам печальный юноша этой фразой? С каким утверждением солидаризовалась страна? Почему понимание равно счастью? Потому что понимать — означает любить. Видеть, какой я хороший, соглашаться с моими мыслями, оценками, предпочтениями. А если ты со мной не согласен, значит, понимаешь меня неправильно. Вот поэтому счастье — это когда тебя понимают.
Отсюда вытекает (не логически, но психологически), что понятливый и, значит, умный человек — это тот, кому мы нравимся. И наоборот, если мы кому-то не нравимся, так это просто потому, что он дурак. Как говорится, «прежде, чем диагностировать у себя заниженную самооценку и депрессию, убедитесь, что вы не окружены идиотами». Логика небезупречная, но психологически достоверная, а потому прекрасно работающая .
Если понимание — путь к любви, значит, любовь важнее. Если не понимают, но любят, то и ладно. К чёрту понимание! Понимание — тот же труд, то же кайло. А мы прекрасны без извилин, как поэт говорил.

Ты за «Спартак» — и я за «Спартак». Значит, мы оба кто? Хорошие люди. Детали не имеют значения. Где есть согласие и любовь, там понимания не ищут.
Проблема понимания актуализируется там, где есть нелюбовь. Недавно я написал в фейсбучике, что не люблю фильма Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». Сразу несколько человек насупились: разъясни?.. А если бы написал, что люблю — никто бы не попросил объяснений. Объяснение — инструмент конфликта, «выяснения отношений».
Говорят, от счастья глупеют. Это естественно — если там, где любовь и согласие, извилины не нужны. Но если там, где несогласие, извилины работают на всю катушку, значит, в несогласии закаляется ум? Похоже на то. «Ты против Путина — и я против Путина. Значит, мы оба кто? Умные люди…» Да уж не быдло.
И всё-таки очень хочется быть и умным, и счастливым одновременно. Что для этого нужно? Окружить себя единомышленниками. Можно — понимающими и любящими тебя людьми, но это будет слегка дурацкое окружение (ведь любящий человек, как мы только что разобрались, отдаёт дураком — сюсю-мусю, духовные скрепы), поэтому лучше — не любящими то же самое, что не любишь ты. И вы будете одинаково умно это не любить.
Вот теперь хорошо. Какое-то время.
Но вокруг так много неединомышленников! Они пролезли всюду, пытаются влиять на нас, диктуют свои законы! Их существование подтачивает наш комфорт, наш прекрасный союз. Что мы делаем в этом случае? Обесцениваем их. Они тупые. Слишком тупые, чтобы понимать нашу правоту.
И снова возникает обратная закономерность (психологическая, разумеется): чем больше вокруг нас дураков, тем, следовательно, мы умнее. Казалось бы, человек, которого не понимают, должен стремиться к тому, чтобы его поняли (полюбили). А выходит наоборот — он лезет в бутылку. «Меня не любят, так им и надо». И в какой-то момент у него возникает…
Вот тут мы добрались до главного. Возникает страх оказаться понятым.
«Мир ловил меня, но не поймал», — говорил философ-мистик Григорий Сковорода. Невольно вспоминается анекдот о Неуловимом Джо. Так ли уж сильно был озабочен мир тем, чтобы поймать Григория Сковороду? Наверняка в несравнимо меньшей степени, чем Григорий Сковорода был озабочен тем, чтобы не быть им пойманным. Мистицизм — это тайное знание не для всех. Если ты всем понятен, какой же ты мистик…
То, что в религии и философии называется мистикой, в искусстве называется «высоким искусством». Для него тоже слишком широкое понимание губительно. Если высокого искусства не понимает вообще никто, оно от этого быть высоким не перестаёт. А вот если понимают все или слишком многие, тогда беда. «Признание унижает писателя», — писал Эмиль Чоран. Унижает, принижает, делает невысоким.
Андрей Горохов (он не только музыкальный журналист, но и художник, пишет картины) однажды сказал: «Понимание я расцениваю как оскорбление». То есть — что бы вы ни сказали о его картинах, это не будет равно тому, что он испытывал, когда за них брался, когда писал, и именно это неравенство, эта попытка свести его горизонт к вашему — и есть оскорбление. «Папа, он меня посчитал», — жаловался телёнок из детской книжки на козлёнка, который умел считать.
Понимание — это символическое убийство, утверждал английский психиатр Рональд Лэнг. Личность — это что-то многомерное, мерцающее, неуловимое. Как Григорий Сковорода. Бесконечное… А «понимая» её, мы её фиксируем — превращаем из живой текучести в статичный мертвенный объект. Что такое несчастье? Несчастье — это когда тебя понимают.
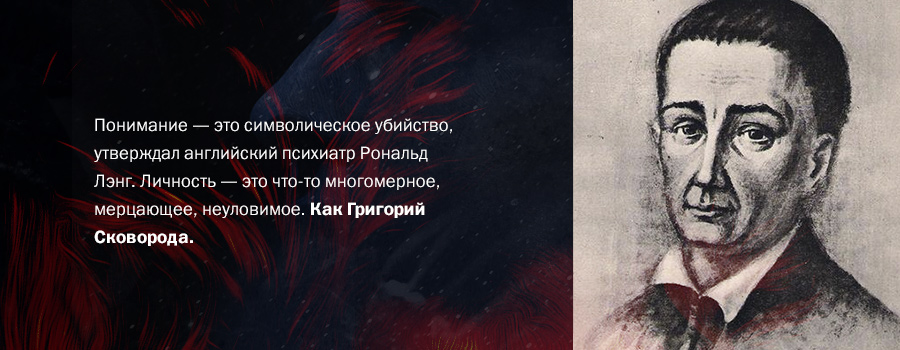
Есть, конечно, художники принципиально понятные — массовые, которых все любят, ну, так мы и выяснили уже, что где много любви, там много глупости. А чтобы ощущать высоту, нужно, чтобы что-то было внизу. Низ нужен, дураки нужны. Иначе ты не умный, а просто…
Ну, просто.
ладимир Георгиевич Сорокин писатель не для дураков. Поэтому дураки для правильного функционирования его творчества остро необходимы. Особенно в последнее время.
Раньше с ним было проще — читали в основном чтоб поржать. Ну, там, бригадир пукнул, парторг пукнул — все пукнули. (Рассказ «Первый субботник».) Сорокин числился тогда постмодернистом. Постмодернизм — доктрина весёлая, а главное совершенно не требующая понимания.
Вернее, требующая непонимания. Постмодернизм в возможность понимания не верит. Теоретическому обоснованию невозможности понимания посвящён такой его раздел как постструктурализм (это там, где между «означаемым», «означающим» притулилось не «различение», как у структуралистов, а «различание», как у Дерриды, и от этого передающий информацию «знак» превращается в ускользающий от тягот коммуникации «архислед»). Проще говоря, понимание — всегда акт волевой, волюнтаристский, назначенный предмету субъектом, а не объективный, проистекающий из, так сказать, природы вещей.
Ну а поскольку в нашем чувственном опыте эта теория особого подтверждения не находит («Движенья нет, сказал мудрец брадатый, другой смолчал и стал пред ним ходить»), то и плевать на чувственный опыт с его категориями блага и бремени, удовольствия и страдания. Можно даже срать на него. Или делать с ним что похуже. Главное, чтобы было по приколу и круто. Как говорится, «делай что хочешь, лишь бы сделанное приносило радость».
Приносило радость кому? Хм… Ну, видимо, тому, кто врубается. Кто понимает.
Где актуализируется проблема понимания, там почти неизбежно возникает разделение на умных и дураков, на «посвящённых» и «простецов». Сорокин шёл по пути непонимания столь энергично, что это привело его в эзотерики. Дураков, которым был непонятен или не казался значительным философско-эстетический смысл говна и насилия было так много, что для защиты от них понадобились весьма солидные укрепления. «Эзотерический» период начался примерно с романа «Лёд». Признаки этого были и раньше — в тех же «Сердцах четырёх», например, но «Лёд» был отмашкой. Из писателя отвязного, «экспериментального», писателя для сверхлюдей, которым всё по барабану, Сорокин стал писателем для умненьких и самоуважительных молодых господинчиков. По мне, так это деградация, ну да ладно.
В 90-е годы, ещё в «постмодернистский» период, в интервью журналу «Искусство кино», стеснительно объясняя, почему «бумага всё терпит» (так нередко бывает, что люди, разнузданные на письме, очень милы в жизни, и наоборот), — так вот, объясняя свой эстетский имморализм, Сорокин процитировал своего товарища и соратника Дмтрия Алексаныча Пригова: «Пока пишу — всё нормально, а поднимаешь голову от листа, и такая тоска накатывает…»
Что имелось в виду? Объяснение нахожим в книжке уже упоминавшегося Рональда Лэнга «Расколотое „Я“» — вообще-то о шизофрениках, но есть там и глава о художественном творчестве (как культурной разновидности шизофрении).
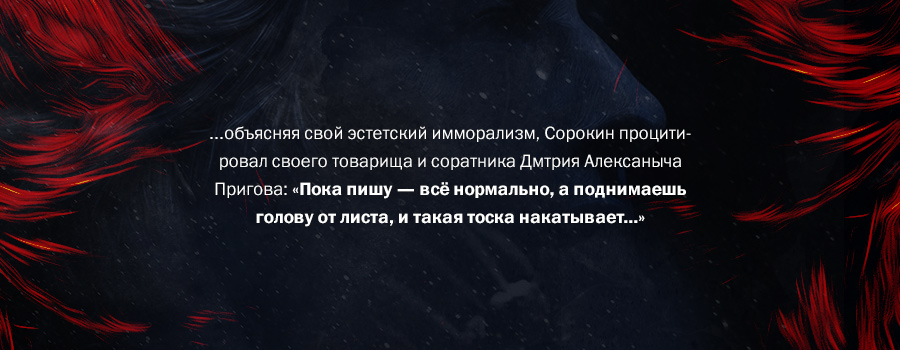
Во время письма писатель волен управлять конструируемыми им обстоятельствами, его воля в этот момент главенствует над «отчуждённым в письме» миром. Мир «понят» и превращён в объект (посажен в клетку), над писателем он не властен. Не пугает, не раздражает, не тревожит — не является источником аффекта. Письмо работает как эйфоретик. Это понятно. Однако у всех наркотиков есть побочки. В момент письма «Я» писателя расщепляется.
Одно «Я» — «внутреннее», «истинное» — продолжает принадлежать объективному внешнему миру: пишущий хочет пить, курить, почесаться. Его можно отвлечь от работы и заставить куда-то поехать, что-то там сделать… Ведь он любит жену, детей, испытывает чувство ответственности перед обществом и вообще — нормальный парень. Он может, строго говоря, вообще ничего не писать. Второе «Я» — «внешнее», «ложное» — актуализируется в момент письма. Оно, как говорила маленькая Аля Эфрон про свою маму, «играет на арфе, бьёт в барабан, побеждает всех». Когда писатель пишет — он бог. Он диктует законы. Где верх, где низ, где чёрное, где белое, где добро, где зло — это решает он. Может, например, написать, что жена дура. И ничего ему за это не будет, как Льву Толстому.
С точки зрения психиатрии, задача этого ложного «Я» — свивать вокруг внутреннего «Я» защитный кокон. Именно так ведут себя шизофреники. Они сверхуязвимы, их бред — это защита от внешнего мира, дымовая завеса, маска. А у писателя эту функцию выполняет письмо, текст, художественная условность.
Примерно об этом же писал Ролан Барт в «Смерти автора», когда противопоставлял фигуре автора эфемерное существо, возникающее и существующее только в «акте письма» — «скриптора», то есть «записывающего». Можно ещё вспомнить концепцию «авторской маски» Карла Мамгрена — в тексте автор всегда притворяется не тем, кто он есть. (Иначе не было бы смысла и писать, добавил бы Лэнг, — живи себе да живи.) Только очень наивный человек будет приписывать личности актёра качества его персонажа. Ну так и писатели то же самое — создают образы, «играют». Не только в персонажей, но и в себя.
Горький одинокий поэт мужественно противостоит напастям мира в полном одиночестве — без подпорок морали; он не нуждается ни в чьём одобрении, он один ведёт неравную трагическую войну с мирозданием.
Так было.
Но мироздание одолело поэта. Поэт обзавёлся успокаивающими нервы единомышленниками и, как сеном, обложился многозначительностью, а это ни фига не величественно. Величественно — когда от человека остаётся часть, часть речи вообще, часть речи. Мычание, которое лишь Бог разберёт и, если надо, простит.
Вместо этого Владимир Сорокин «обрёл свой стиль» — «нашёл себя» (надоело ему быть прекрасным стилистом), начал что-то там прудить, конструировать, умничать, появились у него мысли, появилась аудитория, и вот он уже не с Первородным Хаосом говорит, а с читателем, с публикой, ну и, соответственно, всякие неудобные моменты в его творчестве теперь уже не могут быть объяснены с точки зрения сражающейся с Первородным Хаосом психиатрии. Тут зови на помощь вульгарную социологию в духе газеты «Комсомольская правда».
Но прежде чем позвать на помощь вульгарную социологию в духе газеты «Комсомольская правда», поделюсь коротким историческим анекдотом, который некогда поведал мне издатель Сорокина Александр Терентьевич Иванов-Прибой. (На самом деле просто Иванов, но вот захотелось мне написать «Иванов-Прибой», люблю, когда в словах нечаянно разбужена Красота.)
Было это лет десять назад. У Сорокина начали продаваться книжки, прошёл сценарий, прошло либретто для Большого, и вот приехали у него брать интервью какие-то очередные немцы. А Владимир Георгиевич, не помню уже, то ли квартиру новую купил, то ли в старой ремонт сделал — ну, раз такая жизнь, и встречает в ней гостей — мягкий, уютный, мудрый. А потом, значит, читает. «Мы встретились в его скромной тесной квартире на окраине Москвы…»
Владимир Георгиевич обиделся. И жалуется другу и издателю Иванову-Прибою: смотри. А Александр Терентьевич ему говорит: «Володя! Ты там никому не интересен своей буржуазностью. Потому что самая лучшая наша квартира — говно по сравнению с их квартирами. И самая лучшая наша машина — говно по сравнению с их машинами…
а, так вот. Где-то с год назад выдался у меня смешной день. Сразу два человека подарили мне свои книги, причём первая называлась «Гипсовый трубач», а вторая — «Бог из глины». Первая заставила меня покраснеть, такой она была толстой, а вторую я прочёл с удовольствием. Там были судебные очерки, написанные в разное время Игорем Гамаюновым для «Литературной газеты».
Помните главного злодея в фильме «Пираты ХХ века»? Симпатичный такой, всё с Николаем Ерёменко-младшим дрался. Это Талгат Нигматулин, киноактёр и чемпион Узбекистана по карате. Знаете, как он погиб? Его забили насмерть. Били неспеша, постепенно, несколько часов, а чемпион лишь прикрывался руками, считая, что не может ответить «братьям».
Начиналось всё с поисков «единства с космосом», с «освобождения сознания» и так далее. Двое проходимцев, Абай Борубаев и Мирза Кымбатбаев, выдававшие себя за дервишей, гастролировали по Москве и Вильнюсу, собирая дань деньгами, подарками и послушанием с доверчивой «творческой и научной интеллигенции». В Киргизии, откуда они были родом, дервишами никого особо не удивишь, а тут это была экзотика, выход из обрыдшей советской действительности с её диалектическим материализмом.
Рядовые члены секты и после суда над убийцами не могли поверить, что оказались жертвами проходимцев. Как же… Космические энергии же? Били в барабан, пронизали небесный свод, летали… Трудно отказаться от мысли, что «мир на самом деле устроен не так, как в действительности».
Мировоззрение мистика устроено следующим образом: за видимым и осязаемым миром он чувствует иной, скрытый мир. Этот «иной мир» и является для него по-настоящему существующим, а первый, видимый, он считает иллюзией. Главная задача — вырваться из плена «иллюзии», стать свободным. Не беда, если «иллюзорный» мир при этом будет разрушен. (Например, тебя уволят с работы или распадётся семья. Или кого-то убьют.)
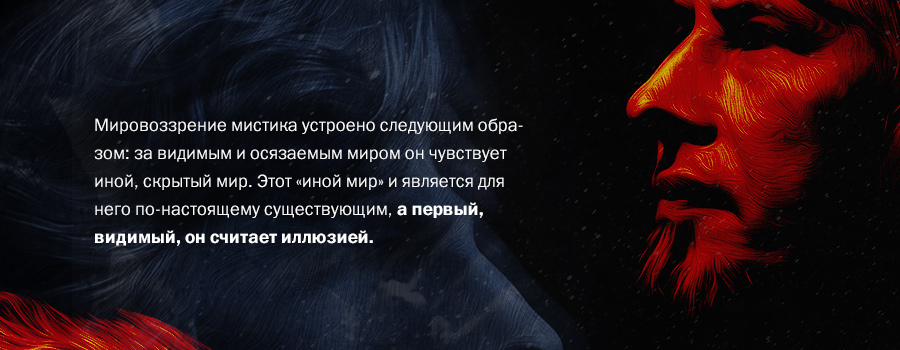
И тут я подумал: вот возьмём литературу. (Я всегда о ней думаю.) Начало 80-х. Скучная советская жизнь, регламент, социалистический реализм. И вот появляется «юродивый», «дервиш», с хрустом и кровью взламывающий границы обыденности. Неслучайно Сорокин начинался с высмеивания реалистических приёмов письма и восприятия (это когда все пукнули). Но смеха мало, необходим шок. Знаете, как «освобождали сознание» в секте Мирзы и Абая? Заставляли женщин совокупляться с «учителем» на глазах у мужей. У писателя возможностей больше. Сорокин предлагал и совокупления с трупами, и садистские убийства беременных, и много чего ещё.
Тут возникает интересный вопрос. Почему секты часто бывают связаны с разнузданностью и насилием? Ну, прежде всего потому, что интерес к смерти, садизму или сексуальным перверсиям бывает первичен, и уже на этой основе возникает секта, трактующая свои цели как сугубо «духовные». Например, в группы, занимающиеся сбором средств на лечение тяжелобольных детей, часто собираются любители поразглядывать фотографии умирающих, это их «заряжает энергией». А «освобождением сознания» обожают заниматься сексуальные извращенцы. Так утверждают исследователи феномена сектантства. Ну а если всё-таки нет? Если духовный посыл в основе? Тогда ответ получится чуть длиннее.
Скажем так. Есть две концепции духовной жизни. Одна из них выражена в мировых религиях, полагающих главной целью спасение души. Другая — в учениях, которым не удалось оформиться или сохраниться в виде религий (это прежде всего гностицизм), а также в мистических течениях внутри официальных религий (например, исихазм внутри христианства, каббала внутри иудаизма, суфизм внутри ислама, чань или дзен внутри буддизма). Это называется «внутренние учения».
«Внутреннее учение» доступно только тому, кто приобрёл духовный опыт внутри соответствующей ему «большой» Церкви. Заняться «внутренним учением» «с улицы» нельзя, как нельзя в физике изучать эйнштейновскую механику, миновав классическую. Да, многие эйнштейновские постулаты противоречат классическим. Но это не значит, что Эйнштейн прав, а Ньютон нет. По земле-то мы «по Ньютону» ходим. А на эйнштейновский мир только в телескопы смотрим. Те, кого допускают до телескопов, астрофизики. Остальные — нет. И, конечно, не потому, что от остальных «скрывают правду», а потому, что остальные не способны этой правды понять. Астрофизики сами в ней не всё понимают. Но у них есть опыт и дисциплина, чтобы отдавать себе в этом отчёт.
Так же — в духовной жизни. Тем не менее люди сплошь и рядом стремятся к «тайным знаниям» минуя «школу». Физика их не прельщает, а эзотерика прельщает. Во всех смыслах этого слова («прелесть» — искушение, соблазн, обман). Да, «внутренние учения» полагают главной целью свободу. Но — как путь к спасению души. Душа превыше свободы. Неофиты этого обычно не понимают. А обманщикам и не нужно, чтоб понимали, потому что где их истинные цели, а где спасение души…
И получается «освобождение любой ценой». Чтобы человек забыл о том, что его «связывает», стал «пустым сосудом», нужно заставить его переступить через мораль. Ведь она «связывает» сильнее всего. И люди готовы пойти на это — ради чего? Чтобы почувствовать себя особыми, необычными. Чтобы «докопаться до истины». Истина ведь на поверхности не лежит? Если истина лежит на поверхности — тьфу на неё! Нам секретную подавай, настоящую… А мы уж, как тот Фауст, не постоим за ценой.
Секты особо буйно цветут в эпоху «смены мировоззренческой парадигмы». Например, в эпоху Реформации в Европе. Или у нас — когда социализм слабел, заканчивался и люди внутренне готовились принять идеологию кошелька и успеха.
Обратите внимание на такой факт: Сорокин авторитетнее всего среди той части интеллигенции, которая называется «либеральной», «демократической». Именно она вручила ему свою сокровенную литературную премию «Нос». Будто по какому-то совпадению именно этим людям важно считать себя «особыми», «лучшими». Вспомним их недавний белоленточный всплеск самодовольства, когда почти каждый отчёт о митинге сопровождался замечаниями типа «здесь собрались лучшие люди страны» или «только посмотрите, какие одухотворённые, какие интеллигентные лица».
Ощущение, что они «особые», основано на уверенности, что мир вокруг устроен неправильно. Можно даже предположить, что «перестроечный» интеллигентский психоз вырос самым непосредственным образом из мистического невроза 70–80-х: сперва йога, дзен-буддизм, НЛО, экстрасенсы, потом Гдлян—Иванов, межрегиональная группа, долой шестую статью. Если мистики считали действительность иллюзией, от которой можно освободиться, то «перестроечники» стали считать, что её необходимо разрушить.
Разумеется, высшей ценностью либералы полагают свободу. Как и мистики. Разумеется, либералы тоже любят образовывать закрытые группы, куда нет хода чужим. И у всякого члена своей секты предполагают «сверхспособности», а недостатки игнорируют. (Ну какие недостатки могут быть у Гайдара или Чубайса? Одни сверхспособности…)
То же самое происходит в литературе. Ну какие могут быть недостатки у писателя, если он «приличный»? (И кому нужны его достоинства, если нет…) Скажешь: смотрите, у Сорокина в книжках детей жарят, как-то нехорошо это, — а они тебе: это языковые игры, сам Сорокин очень добрый, хороший, а вот ты, если этого не понимаешь, на подозрении!..
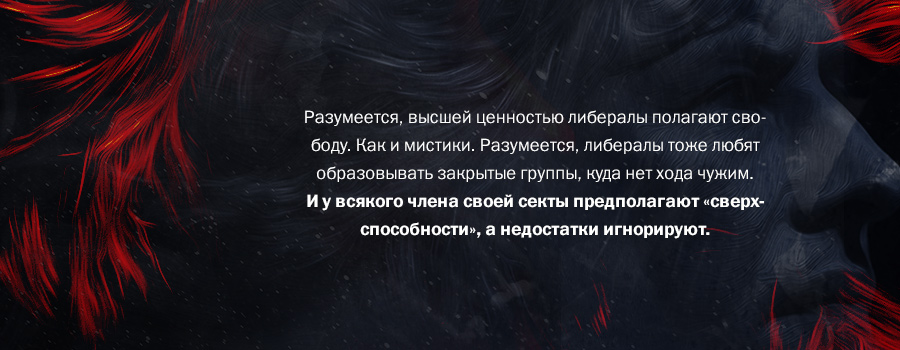
Совсем как в секте Абая. Следователь говорит: «Вот же человек убит!» А свидетельница по делу отвечает ему: «Нет, это не то, чем кажется, вы просто не понимаете. Он святой, он излучает доброту, он сама доброта»…
Быть особенным, понимать что-либо (хоть бы и всего лишь литературу) лучше других и через это «осуществлять власть и контроль» — вот удовольствие, ради которого иной наш «интеллектуал» не постоит ни за какой ценой. Такие люди образовывают секту под названием «свободомыслящая интеллигенция». То есть — «мыслящая о свободе». Не о спасении души.
В общем, семя антихристово.
Когда в прошлый раз я употребил это выражение в своей талантливой статье для «Литературной газеты», некоторые читатели смеялись: ну, дескать, совсем старый с глузду съехал. Анчихристом пужает. Скажи «духовные скрепы»!
Это оттого, что люди у нас в стране малообразованные по сравнению со мной и думают, что антихрист — это что-то вызывающее и неактуальное, вроде чёрта с рогами, артиста Никиты Джигурды или толстого, с нестриженной бородой, священника.
Тогда как на самом деле наоборот. Ну, то есть, для кого-то он и священник, но таких мало. Для большинства людей — это либо хрупкая, с усталыми глазами женщина, занимающаяся благотворительностью, либо благообразный старичок в застёгнутой на все пуговички рубашке, всё на свете знающий и жутко интересно умеющий об этом рассказывать, либо девочка-аутист в гольфиках, шепчущая афоризмы и стихотворения, либо — ну, я не знаю. Выберите что-нибудь вам близкое. Что-нибудь симпатичное, внушающее доверие. Еврейское, белогвардейское — что угодно. («А чтобы грудь всё же была немножечко волосатая, можно? — волнуются женщины-труженицы. — Как у Захара Прилепина?) Можно, можно. Ну, представили?
И что такого в том, чтоб быть его семенем?
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!











[…] «Семя, племя, вымя, стремя» — литературный критик Лев Пирогов о Владимире […]
[…] Возможно, кого-то это удивит, но по тиражам Пелевин сопоставим, например, с Юрием Поляковым. А это значит, что они одинаково известны и любимы. Любимы, кстати, главным образом за юмор. Хотя все — и авторы, и читатели — делают вид, что не за это. Юмор Полякова, по мне, довольно чудовищен. У Пелевина — весьма приемлем. Но это, как говорится, на вкус и цвет. Объективное различие между ними заключается в том, что Поляков — не культовый. Его читатели не испытывают ощущения, что читают «что-то особенное»: умное, философское, многозначительное, масштабно метафоризирующее нашу действительность. (Как люди подсаживаются на ощущение «это что-то особенное», мы подробно рассматривали в статье о Сорокине). […]