Неуловимые мстители
Лев Пирогов о Трифонове вместо Гоголя
дравствуйте!
Прежде всего, отвечаю на главный вопрос: когда будет продолжение Гоголя?
В следующий раз.
И второй вопрос: а почему Трифонов?
Надеюсь, это станет понятно. И потом, от него же произошла вся современная русская литература всё-таки. Если иметь в виду не идеальную «литературу своего сердца», а то, что пишется на русском языке и преимущественно издаётся в России.

Для кого-то, например, современная литература — это Пелевин. Это очень хорошо, но это не так. Не потому, что Пелевин недостаточно хорош. Просто определяющим жанром художественной прозы является сегодня (пока ещё) «жизненная драма», а Пелевин в этом жанре не работает. Вот если бы Достоевский сказал, что все мы вышли из гоголевского «Носа», тогда дело другое. Но раз уж из «Шинели», то драма. С человеколюбием, «прозой сердца» и всеми делами.
Гегель в «Эстетике» определил две основные разновидности эпической прозы: героический эпос и так называемый роман. Почему «так называемый»? Потому что речь идёт не о толстом произведении с масштабными обобщениями. Роман изначально — это почти то же самое, что романс. Ну вот, например, «городской романс». Тёмно-вишнёвая шаль, дрожь ножа в подворотне и хруст французской булки. Человеческое, слишком человеческое. «Мякотка», как выражается Константин Крылов.
А героический эпос — это как патриотическая песня: комсомольские стройки и яростные атаки. Сколько себя помню, люди всегда отдавали предпочтение тёмно-вишнёвым шалям. Ободзинского предпочитали Богатикову. Яростные атаки — это им было неинтересно. Пришлось даже разбавлять героическую песню романсом: например, «любовь, комсомол и весна». Не помогало.
Гегель объяснял это так: героический эпос — первая по времени происхождения разновидность жанра, она соответствует тем историческим условиям, в которых ничто не стесняет воли и гражданской инициативы отдельной личности. Время героев, людей «длинной воли» — «пассионариев», если по Гумилёву. Роман возникает позже, когда пространство инициативы схвачено законом, подчинено традиции, государственная власть не потворствует проявлению инициативы — в обществе преобладают упорядоченно-прозаические отношения. Как там, по Гумилёву, не помню. Акматическая фаза? Или стадия затухания? Такие разные люди были, а говорили в данном случае об одном.
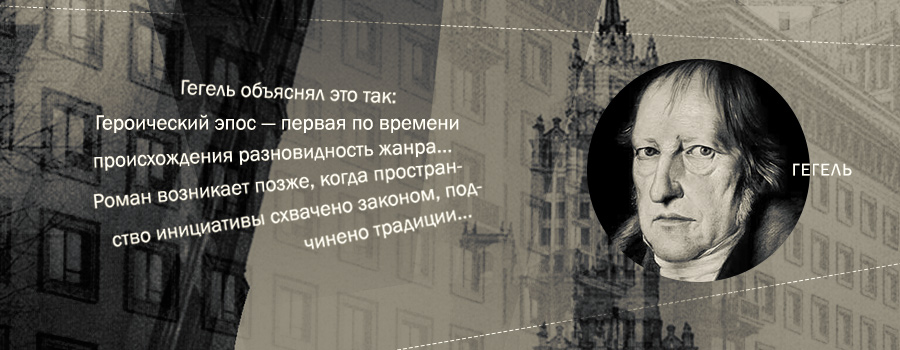
Сегодня интересно наблюдать, как борются две эти тенденции на примере Новороссии. Сам проект «Русского мира» — героико-эпический. Откуда ни возьмись появились «люди длинной воли» (Гиви и Моторола, бывший дирижёр Мозговой и так далее). А с другой стороны — «упорядоченно-прозаическая» сила закона, сдерживающая роль государства, пространство «Минских договорённостей». Первое вызывает у нас горячее сочувствие, второе — досаду. За какие-нибудь тридцать лет, вкусив «упорядоченного мира», мы поменяли предпочтения.
Литературы теперь тоже хочется другой: не той, которая из «Шинели», но и не той, которая из «Носа», а той, которая из «Тараса Бульбы». Но не тут-то было. На «литературных потоках» сидит всё та же «команда либералов», которая задаёт тон в издательствах (то, что им не нравится, не издают) и в литературных премиях, структурирующих затоваренный литпроцесс, ежегодно выхватывая из неразборчивого потока, десяток «наиболее ценных» наименований. И этим «ценным» обязательно оказывается Евгений Водолазкин, Елена Чижова, Марина Степнова, Дмитрий Быков и что-нибудь им подобное. Мещанский романс. Ну, плюс Прилепин. Он, как прежде Роман Сенчин и некоторые другие, нужен этой компании для алиби: «Вот смотрите, у нас демократия, разные точки зрения представлены».
Почему так происходит? Не потому, что эти люди по заданию Путина и ЦРУ сознательно мешают росту национального самосознания народа. Нет, они действуют по велению сердца. А сердце их принадлежит Юрию Трифонову. Он их породил, а вовсе никакие не Андрей Платонов с Набоковым. Причём, что интересно, породил случайно. «Неправильно поняли».
Кто такой Трифонов? На одной выставке я видел драгоценный экспонат: акварельный рисунок, выполненный Юрой Трифоновым, когда ему было лет двенадцать, кажется. Очень средний и неловкий, если судить его «по мерке искусства», но потрясающе старательный, каллиграфически выполненный. Такой — уютный, «каждый пальчик прописан». Рисунок, кстати, изображает партизанскую атаку (времён Гражданской войны), то есть рисунок-то как раз героический.
Именно этот рисунок (а не пресловутая повесть «Студенты») стал для меня тем самым «первым произведением», которое, как мы неоднократно говорили, «всё объясняет» — всё последующее творчество. Во-первых, всю дорогу Трифонова тянуло к «героической» (героико-революционной) теме. Не помню точно названия произведений, но какие-то там были костры, грозовые дали и суровые старики. Нет, одно название помню — «Нетерпение». Отличнейшее название. Нетерпение — как знак революции (а терпение, соответственно, — эволюции).
В промежутках между этими героическими произведениями, к которым Юру Трифонова тянуло не только по происхождению и воспитанию (папа был видный большевик, расстрелянный за заслуги), но и по положению «советской элиты» (несмотря на это Трифонов «вынырнул» и всю жизнь принадлежал к советской верхушке, это потом уже из него жертву режима перерисовали) — в промежутках между кострами и далями он писал лирические рассказики и повестушки, «пустячки», которые и обессмертили его имя. Без тех пустячков никто бы уже не помнил, что он там написал-то. «Костёр» какой-то… Или «Старик»?
Родители Трифонова были репрессированы, когда ему было двенадцать. Воспитывала его бабушка, тоже, впрочем, старая большевичка. Обстоятельства, позволившие Юре стать комсомольцем, окончить Литинститут, напечататься в главном журнале страны («Новом мире» Твардовского) и получить Сталинскую премию за этот дебют (пусть и не первой степени), могли бы считаться загадочными и взыскующими расследования (подозрительно, ох, подозри-ительно), если бы не два утешительных обстоятельства.
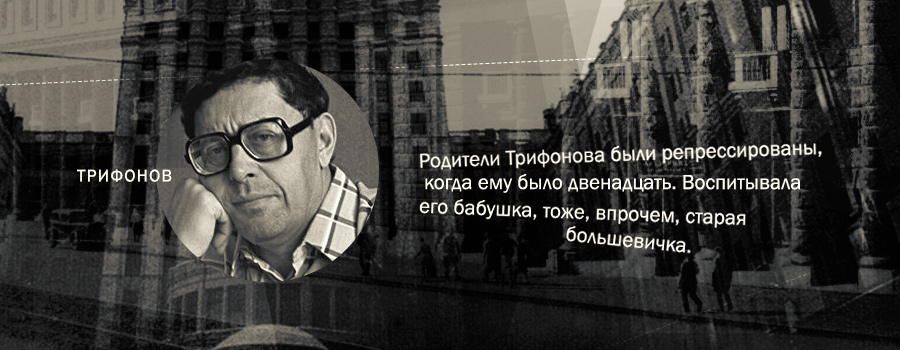
Первое — как ни был жесток Сталинский режим, он всё же был не столь параноидально жесток, как рисует его фантазия советского интеллигента. Мы судим о нём по наиболее трагическим историям, которые отобраны историками, мемуаристами и писателями (последние так и вовсе — необходимый трагизм могут досочинить), а истории пожиже (или вовсе отсутствие каких бы то ни было «историй») в поле зрения не попадают. Ну не будешь же писать мемуары или роман про человека, который жил при Сталине и ничего ему за это не было! Можно считать, что судьба Трифонова — это как раз одна из таких «непоследовательно трагичных» историй, и ничего в этом нет подозрительного — бывало так.
Второе обстоятельство может состоять в том, что Юра был всё-таки (по маме) еврейский мальчик из хорошей семьи, ну и журнал «Новый мир» (за вычетом Твардовского) был приличным еврейским журналом, вот свои люди и помогли человеку, как того требует здоровый национализм. Так это или не так, не знаю, не изучал вопроса, но сумма опыта, интуиций и суеверий подсказывает, что так.
После выдающегося дебюта с Трифоновым случилось то, что называется в поп-музыке «проблемой второго альбома». Второй альбом оказался провальным. От него последовательно отказались и журнал «Знамя», и «Новый мир» (вот и верь после этого в еврейскую солидарность), и все-все-все. Всё, что можно было выписать из своего опыта, Трифонов выписал в «Студентах» (крах семьи и тяготы эвакуации описывать, понятно, было нельзя), а нового опыта взять было неоткуда.
Трифонов поехал за жизненными впечатлениями в Среднюю Азию (как некогда русские поэты — на Кавказ), но масштабного полотна из этих впечатлений не получалось. Отары, чабаны, палящий зной и рассветы в полнеба, всё это, конечно, мило, но как-то не так, не то. Некоторое время он прозябал, пробуя себя в путевом и спортивном очерке, почти в журналистской работе. И вот, наконец, в 1969 году прорвало. Появилась повесть «Обмен». Краткое содержание: мать героя смертельно больна, жена беспокоится, что надо бы обменять их и её квартиру на большую, чтобы «метры не сгорели» со смертью владелицы (жильё-то было государственным, и завещать его было нельзя). По-житейски она была права, но для героя этот делёж наследства при живой ещё матери стал личной драмой, заставившей «на многое взглянуть в новом свете».
Была найдена схема: «Слабый человек не способен на подлость». Одинокий герой (в нравственном смысле одинокий) слишком слаб как для того, чтобы активно противостоять несправедливостям мира, так и для того, чтобы творить их самому. Потенциал у схемы оказался огромным. Ведь если слабый на подлость не способен, значит, сильный (положительный, соцреалистический) — что?.. Нет, Трифонов ничего такого не утверждает. Читатель сам этого хочет. «Активный положительный герой» отождествлялся с властью, с официозом. А герои трифоновских «городских повестей» (всего их было написано пять — за шесть лет) — с «правдой жизни». Это было «как к роднику припасть».

Из школьного курса литературы мы помним, что высший успех для автора эпической прозы — это создание «типа героя», то есть «героя своего времени». Вот Трифонов и создал, по сути, советского «лишнего человека», советского Онегина и Печорина. (Обращал ли кто-нибудь внимание на то, что фамилия Ленин является продолжением этой литературной игры? Наверняка.)
«Лишний человек» всегда возникает на стыке двух фаз общественного развития: «героической» (когда востребована индивидуальная воля) и «упорядоченной» (когда воля ограничена). Для пушкинских и лермонтовских «лишних людей» героической эпохой была Отечественная война и порождённый ею декабризм, а упорядоченной — «Николаевская реакция». Для трифоновских «лишних людей» героической эпохой была революция, а упорядоченной — «брежневский застой». Второе обстоятельство читатели заметили. Первое — как-то нет. Хотя и оно было для них психологически правдоподобным.
Недаром так долго бытовало у советской интеллигенции мнение, что ленинская-то эпоха была хорошая, это уже потом всё испортилось. Сталин и Брежнев подлецы, а Ленин — молодец. При нём всё было «по-настоящему». Шашкой и наганом добывали славу отцы. Из ниоткуда, из еврейских местечек поднимались до железных наркомов и квартир в Доме на Набережной. А как отменил Сталин Мировую Революцию да занялся унылым государственным строительством, начал «личную инициативу сковывать» (попросту — сажать и расстреливать наиболее отличившихся), так и всё… Вспомнил я, наконец, как назывался тот роман — «Отблеск костра». Одни только отблески трифоновскому лишнему человеку от великой эпохи остались.
Трифоновские герои «тосковали по делу», которого официальная идеология им предложить не могла, но признаться в этом было нельзя, вот и назвала критика его творчество «городской прозой», а его героев — «горожанами» — то есть, в сущности, мещанской прозой, мещанами. Его даже официально критиковали «за бытовизм». Это было очень похоже на правду, но не правда. Плюшевыми зощенковскими мещанами, всецело занятыми «мирным строительством» (фикус, слоники на комоде) были жёны и дети его героя. Это они коллекционировали иконы и увлекались «Мудростью Востока». Сам трифоновский герой — это был бронепоезд, томящийся на запасном пути. Помните, у Юрия Деточкина — «мама такая хорошая, про бронепоезд поёт»? А ведь Юрий Деточкин не безобидный человек — он мститель. Трифоновские мягкотелые интеллигенты были окуклившимися личинками, ждущими своего часа.

О, эта советская интеллигенция!.. Горькая, как шоколад. Печального образца. Обожает лютневую музыку Возрождения и как Дюк Эллингтон встречается с Коулменом Хокинсом. Советская интеллигенция сидит по углам и молча ставит себя под плеть — то бишь выходит на коммунистический субботник в шерстяных штанах с веником, но советская интеллигенция — она как пружина. Чем дальше гнёшь, тем сильней распрямится. И уж как начнёт распрямляться — не остановишь…
Был такой анекдот — про Ленина, как он за брата отомстил. Нынешним не понять, почему смешно. А тем, которые диалектический материализм учили, было понятно. В анекдоте объективные исторические процессы ставятся в зависимость от ЛИЧНОЙ ВОЛИ. На бессознательном уровне анекдот дарил надежду. Надежду на то, что может быть не «исторически объективно», а как я хочу. Надежду на то, что всё может вдруг — бах и сломаться. Весь объективный исторический материализм — тяжёлый, как Кремлёвский Дворец Съездов. Вся эта дремотная Азия в Президиуме Политбюро, неумолимая, как «Время, вперёд», что каждый вечер сучит поршнями. «Ленин отомстил — и я отомщу». За папу и маму, за дядю. (Дядя Трифонова, красный командарм, тоже сложил голову в 37-м.) Тем, у кого не было расстрелянных Сталиным родственников, хотелось отомстить просто так.
И они дождались своего часа. Что такое либеральная российская интеллигенция? Это она, бывшая советская, и есть. Конечно, притворилась антисоветской (и всегда, мол, такой была), но мы же не дети, мы же узнаём брата Колю.
Всё, что происходило со страной последние 30 лет, это была лишь «постсоветская эпоха», никакой «Новой России» у нас ещё не было, потому что не было героической эпохи. «Свобода воли» комсомольца-приватизатора или свердловского братка, который «дела делает» была лишь продолжением мещанской тенденции: помните, в городском романсе не только шаль, но и фикса, и блеск ножа? А смысл-то всё был мирный: нацеревать миллиардов сто, да с ними утечь. Недаром бывшие совинтеллигенты, так приветствовавшие «образование класса собственников» (по-латынински умилявшиеся криминальным «баронам», якобы возвращающим нас в эпоху высокого Средневековья), сегодня перхают желчью в адрес новороссийских командиров, которые тоже что-то там «отжимают», чтобы содержать бойцов. Героем совинтеллигента был Чичиков, а не Тарас Бульба.
А героем Трифонова — бывший Тарас.
Закончится ли на этот раз «эпоха упорядоченных отношений», придёт ли ей на смену новая героическая эпоха — не знаю. По-обывательски мне очень этого не хочется. Страшно. Но, с другой стороны, и чичиковщина достала. Поживём — увидим, конечно. И не захотим — так покажут.
Вот такое рассуждение в сторону, прежде чем возвратиться к Гоголю, из разных произведений которого всё, что наблюдаем вокруг, вышло.
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!




















[…] Неуловимые мстители: Лев Пирогов о Трифонове вместо […]