Какую литературу можно считать русской?
Лев Пирогов о русском национальном литературном своеобразии
етский вопрос: что такое русская литература? Она есть вообще?
Ну вот, например, русской математики нет. Есть русские математики. Может, и с литературой так? Нет никакой содержательно или стилистически особой русской литературы, а есть русские писатели: Пушкин, Гоголь, Довлатов и Окуджава. Примерно такой взгляд и является сегодня, э-э, правящим.
Мне он не нравится. Мне нравится назначать национальность вещам и явлениям. Ну, типа пунктуальность — немецкая, а разгильдяйство — русское. Соответственно, табуретка: вот немецкая, из «Икеи», собирается на раз-два, а вот наша, Шатурской фабрики, тут ещё надо голову приложить, проявить творческие способности…
Чопорность — английская (она же — боязнь конфуза), бесцеремонность — русская (она же — задушевность). Чопорность и пунктуальность = цивилизованность, а разгильдяйство и небоязнь конфуза = в жизни всегда есть место подвигу.
Вот мы уже обрисовали национальный характер. Так как же так может быть, чтобы у характера национальность была, а у литературы, занимающейся созданием этих самых характеров, её не было?

Может быть, конечно, национальный характер — это миф. Может быть, русские на самом деле — чопорные педанты, а немцы и англичане — самоотверженные бухарики, может, так. Но тогда тем более, откуда же взяться мифу, как не из литературы?
И куда ему деваться, как не обратно в неё, после того, как он становится неактуален?..
А значит, национальные литературы должны быть. Даже если не удаётся распределить по ним каждый текст и каждого писателя. (Например, Кафка — он чей? Австро-венгерский, чешский, еврейский?) Национальные литературы как «идеальные образы», а не как конкретно-исторические типы.
Но за какой же кончик ухватиться, чтобы эту национальную принадлежность на свет вытянуть? Первое, что приходит на ум, — это культурная антропология. От этого ещё литераторы XIX века, решая вопрос о «народности литературы», предостерегали: не ищите, дескать, «народности» в той лишь литературе, где изображён «народ»: бороды, зипуны и квашеная капуста. А почему? А потому, что тогда им самим мало что от этой «народности» доставалось. Они-то в зипунах мало смыслили. В общем, прогибали решение вопроса под себя. Забавно, что при этом хотели они быть именно «народными», а не «национальными», как мы теперь аккуратно говорим, то есть, получается, искали в самих себе культурные следы низших сословий. (Мы, нынешние, от этакой нечистоты бережёмся.)
Кстати сказать, сами поиски «народности» в литературе — дело подражательное, заимствованное в Европе; первым это занятие придумал Иоганн Готфрид Гердер, когда издал сборник «Голоса народов в песнях», куда, наряду с народными песнями, включил и авторские стихотворения, чтобы показать единство авторской литературы и «народного духа». Потом этим усердно занимались немецкие романтики (Фридрих и Август Вильгельм Шлегели, Ахим фон Арним, Клеменс Брентано, Якоб и Вильгельм Гриммы). Таким образом, мода на славянофильство (тогдашний национализм) пришла к нам вместе с модой на романтизм и была — как ни парадоксально — заграничным заимствованием.
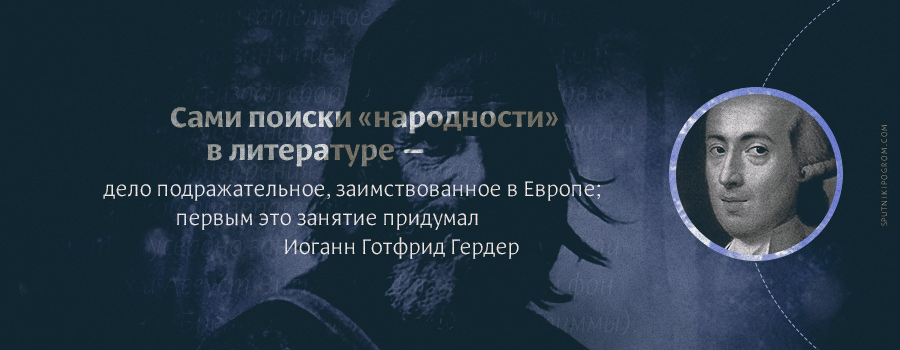
Проблема в том, что заграничные моды доходили до нас с задержками, причём каждый раз задержки эти стремительно сокращались, так что новые моды буквально наступали на пятки старым. В Европе романтизм владел умами три четверти столетия (начиная с 1770-80-х годов), у нас же вошёл в моду с лёгкой руки Петра Андреевича Вяземского (в предисловии к собранию поэта и драматурга Владислава Александровича Озерова) в 1816 году, то есть почти на полвека позже, и уложился всего-то в пару десятилетий. Не успели мы как следует насладиться романтизмом, как в 1830-х годах в дверь постучал Бальзак, и хотя люди, следящие за модой, назвали это реализмом далеко не сразу, но почувствовали, что романтизм на сходе, почти моментально.
Прогрессивные умы стали воротить от романтизма нос, хотя самим термином по инерции пользовались ещё долгое время, пока Фаддей Венедиктович Булгарин не изобрёл в 1846 году выражение «натуральная школа». (Он употребил его в негативном смысле, но Виссарион Григорьевич Белинский тут же подхватил и поднял на знамя; произошло это, кстати, в споре о творчестве Гоголя.) Славянофильство, таким образом, оказалось пережитком романтизма, неудивительно, что прогрессивные умы стали заодно воротить нос и от него. Вот так и случилось, что славянофильство (тогдашний русский национализм) стало уделом людей консервативных, «медленных», а его неприятие — достоянием людей «прогрессивных». Эта традиция сохранилась на протяжении долгих лет.
Таким образом, дискуссия о «народности литературы» стала ристалищем, на котором сражались славянофилы (консерваторы) и западники (прогрессисты). И если первые усматривали «народность» в верности духу русского фольклора и быта (то есть вовсю использовали культурно-антропологический подход) и это было вполне понятно и просто, то последние видели её прежде всего в реалистическом изображении действительности, то есть прогибали под свой актуальный метод. И вот это уже как раз было непонятно и сложно. Требовалось изрядное напряжение ума, чтобы такую «народность» обосновать, поскольку и сам-то метод (реализм) понимался его адептами весьма расплывчато.
И, по правде сказать, понимается расплывчато до сих пор. Попробуйте почитать какую-нибудь статью на тему «романтизм литературный» — вы насладитесь простотой и ясностью: вот временные рамки, вот жившие в этих рамках представители, а вот признаки: противопоставление героя среде, экзотизм обстоятельств и так далее. А теперь попробуйте прочесть про реализм. Мама дорогая! Оказывается, он обоснован ещё чуть ли не Аристотелем и был уже у Гомера, Рабле и Свифта. И в древнеегипетском-то искусстве он был, и уж, само собой разумеется, в античном… Короче говоря, у каждой эпохи свой реализм. Но при этом оговаривается, что не следует отождествлять реализм с «внешним реализмом», то есть, например, с фотографическим сходством в живописи или с социальной сюжетностью в литературе. Вот и пойми.
Это то, что называется «аберрацией близости». Настоящее видится издалека, с исторической дистанции, когда душа успокоилась, вблизи же, особенно изнутри ситуации, — всегда видится неразбериха какая-то: несущественное кажется важным, а важное — несущественным. Статьи-то о реализме пишутся «изнутри реализма», коль скоро этот метод до сих пор актуален (не в литературе, так в телесериалах), вот оно так и выходит.
Кстати, выражение «у каждой эпохи свой реализм» в оригинале звучит иначе: «У каждой эпохи свой постмодернизм». Это Умберто Эко сказал — в статье «Заметки на полях „Имени Розы“». Постмодернисты, чая себя ни больше ни меньше сменщиками реализма в историческом масштабе, ничтоже сумняшеся слизали у реалистов «метод описания метода».
Ну вот и представьте теперь, как выглядела бы в наше время дискуссия о «народности литературы» между славянофилами и западниками. Это как если бы писатели-деревенщики с Виктором Пелевиным спорили. Вы за кого? Дайте угадаю с трёх раз…
Тогда западники постановили, что «народность литературы» — это не верность народному быту и фольклорной стилистике, а ни много ни мало — «реалистическое изображение действительности». На том и порешили, а поскольку что такое реализм, мы до сих пор понимаем с трудом, то и вопрос с «народностью», то есть национальными чертами литературы, запутался.
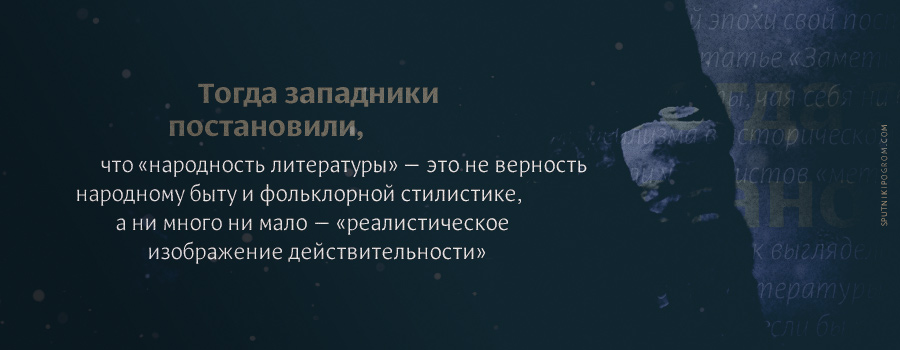
«Народность произведения прежде всего определяется важностью для народа вопросов, которые освещены в нём художником, существенными явлениями жизни, отражёнными в произведении. Отражение жизни в такого рода произведениях отличается глубиной проникновения в жизненные явления, правдивостью изображения существенных их сторон и таким изображением человека, которое воспитывает в народе лучшие человеческие мысли и чувства. Народность требует от художника простоты, ясности и выразительности формы произведения, доступной широким народным массам, простоты и выразительности его языка».
Понятно?
Это как если бы сегодня мы сказали: «Народность произведения определяется следованием принципам отказа от традиционного „я“, стирания личности, подчеркивания множественности „я“, карнавализации как признания имманентности смеха и тотальной иронии. Для такого рода произведений характерна многоуровневая организация текста, рассчитанная на элитарного и массового читателя одновременно, в чём выражается плюралистический тип мышления с его раскрепощающим характером. Народность требует от художника интертекстуальности, выражающей опору на всю историю человеческой культуры, и растворения авторской позиции в используемых дискурсах».
Вот примерно это и утверждалось сто пятьдесят лет назад с полной серьёзностью. И до сих пор никем особо не опровергнуто.
Нам, далёким от литературной науки людям, это кажется дикостью, а не далёким — нет. Почему? Ну вот смотрите. С точки зрения далёкого от русского национализма пещерного троглодита, кто такой русский националист? Это бородатый человек, ходящий в сапогах и поддёвке, кушающий ботвинью, говорящий «авось» и «неторопко», ездящий на «Ниве» или шестых «Жигулях» и слюнящий пальцы при чтении Псалтыри. Плюс-минус, но как-то так. А что же на самом деле? На самом деле это либо изящный бильярдно-полированный джентльмен в «бабочке» с американским английским, либо молодой интеллектуал с шестьсот шестьдесят шестым айфоном.
То есть актуальный, не мифологический национализм куда ближе к постмодернистской стилистике, чем к собственному идеальному образу, так почему же с литературой должно быть иначе?
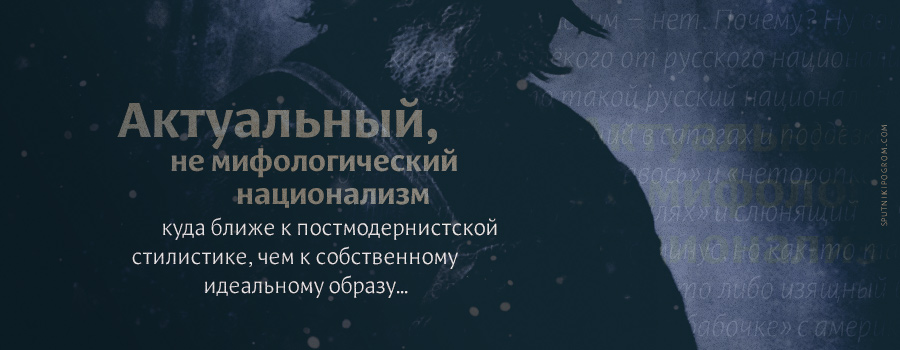
Мы все стремимся из зоны наибольшего давления в зону наименьшего, то есть — к комфорту. Национализм же возник (на русской почве, во всяком случае) как форма добровольной аскезы, наложенной на себя образованным имущим сословием, «оторвавшимся от корней», в виде покаяния перед неимущим необразованным, чей вид и страдания напоминают об этих корнях.
Но добровольная аскеза не есть жертва. Каемся мы не ради других — ради себя. Национализм слявянофилов был не «для народа», а «для культуры», при том, что культура — это именно их, образованного сословия, актуальность, только их волнует её состояние. То есть попросту это был национализм для себя.
Это был национализм жертвования конкретным (социальной инерцией и комфортом) ради абстрактного (культура как субстанция) или, как сказал бы Артём Владиславович Рондарев, реальным ради символического. Нормальная стратегия цивилизованного человека: «Всё на свете шерри-бренди, ангел мой», то есть — всё на свете «фикции и конвенции». Ничего нельзя потрогать, как в детстве — Луну. Цивилизованный человек, устранённый от участия в решении реальных вопросов, предпочитает воспринимать Луну символически, это позволяет ему сохранять самоуважение: виноград не то что зелен, его вообще «нет».
Славянофилы и их преемники русские националисты были цивилизованными людьми, закупоренными в колбе символических смыслов, поскольку в основном, за редкими исключениями (Тютчев, «Союз Михаила Архангела», полумифическая «Русская партия» в ЦК КПСС), были удалены от решения практических (государственных, политических) задач. Нынешние националисты позиционируют себя реалистами: они предпочитают конкретное — абстрактному, реальное — символическому, социальные и политические цели — культурным. Проще говоря, для них практический комфорт и выгода «своего народа» важнее, чем следование какой-то там чистоте «национального характера», а потому они преспокойно ездят на заграничных машинах, пользуются гаджетами и по возможности отдыхают в Италии. Таким образом (возвращаясь к спору славянофилов и западников о «народности литературы»), современные националисты — скорее западники, чем славянофилы, скорее прогрессисты, чем консерваторы.
Как можно сочетать декларируемый русский национализм с проповедью индивидуализма, с приверженностью либеральной (а не «мобилизационной») экономической модели и вообще — более либеральным, чем патриотическим, ценностям? (Стандартный упрёк нынешним национал-демократам и формации «Спутника и Погрома».) А вот так, как мы сейчас показали.
Тем не менее «прогрессивный» (или, если угодно, «прагматичный») взгляд на «народность литературы» не перестаёт от этого быть абсурдным. Его абсурдность поверяется одним очень простым вопросом: если следование принципу «народности» выражается в следовании реалистическому методу, то чем тогда отличается русский реалистический роман от английского реалистического романа?
Если мировоззрение русского националиста тождественно мировоззрению безродного либерала, то чем они сами сущностно (а не ситуативно) различаются? Значит, националист относится к тем или иным явлениям действительности тем или иным образом в зависимости от сиюминутной политической выгоды, а не потому, что в силу своих убеждений, своей природы, своего «национального своеобразия» не может относиться к ним иначе.
Скажем, националисты желают, чтобы их народ достойно жил. Этого же в XIX веке желали народники, националистами не являвшиеся. Для этого, считали они, нужно изменять народ (например, просвещать его). Славянофилы — те скорее желали «достойной жизни» (то есть правильной, нравственной, сообразной народному духу) себе. Для этого нужно было изменять себя самих. Не народ, а сами они были для себя точкой приложения основных сил.
И что интересно. Когда аристократ либо образованный человек хочет притвориться народом, это называется интеллигентностью (в старом, а не нынешнем противоположном смысле слова). Когда же, наоборот, человек «простой» притворяется аристократом, это называется «мещанством».
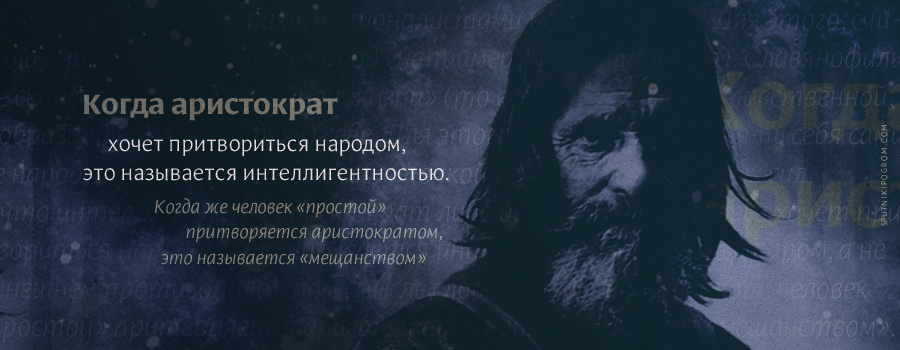
«Мещанство» — это подражательство чужому образу жизни, в основном быту, без восприятия той социальной роли и тех обязанностей, которыми этот образ жизни был обусловлен. Крестьянин живёт «народной жизнью», потому что является землепашцем, жизнь эта привязана к природным циклам, его мироощущение в самом деле во много обусловлено «родной природой» (её всегда вспоминают в связи с национальным своеобразием литературы: «Природа формирует человека и провоцирует на разные поступки, следовательно, формирует историю»). Однако жизнь горожанина, будь то мещанин или аристократ, с природой не связана. Ему, грубо говоря, всё равно, идёт ли дождь или светит ли солнце (лучше, когда светит, даже если при этом оно выжигает посевы). Так не является ли идеализация народной жизни, известное умиление всеми этими Платонами Каратаевыми и Иванами Денисовичами, разновидностью того, что мы называем «мещанством»?
Недаром Лев Толстой порывался есть чёрный хлеб, пахать землю и тачать сапоги. Правда, пользы обществу эти его занятия не приносили — одно только расстройство кишечнику и семье. Его «опрощение» было направлено на себя, в той же части, в которой оно было обращено вовне (как «нравственный пример»), являлось аспектом его писательства — истинной социальной функции. А для писательства всё ж были необходимы свободное время, тишина в доме и превосходящий нормы «народной жизни» достаток.
Итак, сомнительность определения «народности литературы» через социальную и культурную значимость, якобы гарантируемую реалистическим методом, свидетельствует не столько о лукавстве тех, кто это определение предложил, сколько о действительной сложности вопроса. Недаром литературоведы стали разносить понятия «народности литературы» (как бы законсервировавшееся в XIX веке) и «национального своеобразия».
С этим последним, впрочем, всё тоже обстоит крайне уныло:
«Для россиянина характерным будет движение снизу вверх, от земли к небу, от черного к белому (светлого) ({{1}}). Ведь особенности его мышления доказывают, что злые силы ада, всякой нечисти, живут в темноте, под землей. Отсюда стремление народа к свету, движение, направленное вверх: от земли к небу. Для киргизов, по мнению Г. Гачева, характерным является движение сверху вниз, из гор в долину, от черного к светлому (желтого), которое совпадает в системе их мировосприятия. Ведь для этого народа все темные силы находятся наверху, в горах, а все ясное, светлое, животворящее — внизу. В таком случае абсолютно логичным для представителей этого народа является стремление двигаться вниз, держаться как можно дальше от гор и спрятанных у них темных сил».
Такая наука. «Россиянина» от киргиза она отличает (кроме, понятно, тех случаев, когда россиянин — киргиз), а вот чеха от поляка — уже боюсь, что нет.
Так, может, правы были консерваторы-славянофилы и «народность литературы» измеряется в зипунах, то есть, пардон, в культурно-антропологических типах? При всём кажущемся преимуществе простоты, эта точка зрения имеет свой недостаток, причём фатальный. Именно простота определения «народности» через следование нормам народной поэтики и народного быта делает её лакомой и доступной для всевозможных фальсификаторов, включая попросту дураков и бездарей.
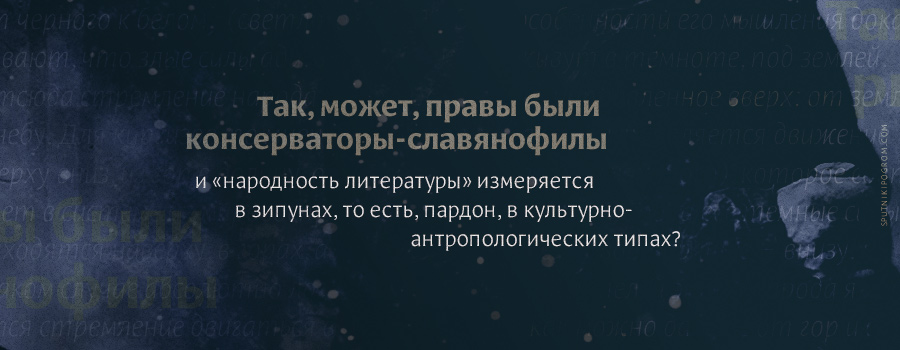
Их совместные усилия прочно связали понятие «народность литературы» с известной цитатой: «Инда взопрели озимые. Рассупонилось солнышко, расталдыкнуло свои лучи по белу светушку. Понюхал старик Ромуальдыч свою портянку и аж заколдобился».
Это отнюдь не исключительный плод фантазии Ильи Файнзильберга. Вот несколько реальных цитат из тогдашней «крестьянской» литературы, откуда растут ноги старика Ромуальдыча:
«Из-за Шихан-горы трёхлетним карапузом выкатилось солнышко, улыбнулось полям, лесам, длинными лучистыми пальцами заерошило в соломенных крышах…»
«Июнь-растун сделал свое дело. Поклонилась горизонту колосом налившая рожь, посерели широкопёрые овсы… и над полями уныло затрюкали молодые перепела».
«Домовито усядется путник на кочку, снимет лапти… развернёт, растянет и хорошенько вытряхнет портянки…»
И так далее. В литературе 20-30-х годов этого добра было навалом; направление называлось «крестьянская литература» и состояло, разумеется, далеко не сплошь из крестьян.
В русской литературе было немало талантливых писателей из народа: Федор Михайлович Решетников (1841-1871), Сергей Терентьевич Семёнов (1868-1922), Георгий Дмитриевич Гребенщиков (1883-1964), да тот же Чехов был человеком из народа. Но вот что интересно: если сравнить образ «души народной», складывающийся из их произведений, с тем, что знакомо нам по произведениям наших великих писателей, происходящих из «образованного сословия», получится, так сказать, две большие разницы. Очень далеки были представители народа от идеализации (и в строгом историческом смысле слова романтизации) народной жизни и так называемого «национального характера». (Чехова так и вовсе принято ругать за то, что он «не любил народа», потрясая юмореской «Злоумышленник» и повестью «В овраге».)
Только во второй половине XX века, когда происходящая из высокородной литературы идеализация народной жизни была через систему образования вдолблена в народные головы, оформилось направление «деревенской прозы», перенявшее у классиков сентиментально-восторженное отношение к заповедной «народной душе».
Скажем так, «деревенщики» переняли у классиков далеко не худшее. У них получилась очень симпатичная литература. Может быть даже, это и был в какой-то мере синтез двух противопоставленных западниками и славянофилами тезисов — окончательное решение вопроса о «народности литературы». Лично я считаю повесть Евгения Носова «Усвятские шлемоносцы» самым мощным и ясным произведением о том, что такое русский человек. (Мечтаю когда-нибудь написать о ней.) Но как же быть с «недеревенской» литературой? Тот же Венедикт Ерофеев, как бы мы к нему ни относились, — разве он не «специфически русский» писатель?
Вопрос остаётся открытым и ждёт новых манифестов, диалектическая напряжённость его зашкаливает.
— Э, э, аффтар!.. — справедливо скажете вы. — Это что мы сейчас читали? Где позитивный вывод? Так какую же литературу считать несомненно русской?
Ну так ведь статья не называется «Какую литературу можно считать русской (сейчас объясню)». Там вопросительный знак в подзаголовке, не говорите, что вы не видели. Есть много вопросов, не имеющих объективного решения, только субъективное, волевое. Как сказал автор «Естественной истории млекопитающих» граф де Бюффон, «стиль — это человек».
Так вот, собственно, я об этом.
[[1]]Так в цитируемом тексте. — прим. ред.[[1]]
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!




















[…] Какую литературу можно считать русской? Лев Пирогов о русском национальном литературном своеобразии […]