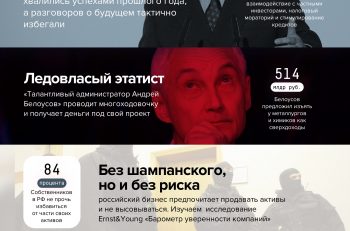Впервые опубликовано в журнале «Вопросы национализма» №8 в 2011 году под заголовком «Достоевский и русский национализм». Автор текста: Сергей Сергеев.

Был ли Достоевский русским националистом? Не будем сейчас касаться его великих художественных творений, учитывая присущую им «полифонию», открытую М.М. Бахтиным. Обратимся к тем его сочинениям, где голос автора однозначен и монологичен — публицистике, письмам, записным книжкам. Исходя из их анализа, ответ на вышепоставленный вопрос очевиден. Вне всяких сомнений, писатель был последовательным русским националистом.
И дело не только (и не столько) в его яростной юдофобии или полонофобии, о которых так много написано, — ксенофобия как таковая ещё не означает автоматического национализма. Дело в самих основах его политического мировоззрения. Это так даже с точки зрения формально терминологической. Фёдор Михайлович часто использовал концепт нации (или национальности), и всегда в позитивном смысле, например:
«Национальность есть более ничего как народная личность. Народ, ставший нацией, вышел из детства (в цитатах все выделения жирным шрифтом мои. — С.С.)» (Из записных тетрадей 1872–1875 гг.; 21, 257)({{1}}).
Дважды он определил своих единомышленников как «националистов»: 1) в письме А.Н. Майкову от 9 (21) окт. 1870 г. (29, кн. 1, 146); 2) в «Дневнике писателя»({{2}}) за январь 1877 г. (25, 20), — хотя этот термин в то время ещё не был широко распространён. Национальное для Достоевского есть высшая ценность в социально-политической сфере:
«Всякий русский прежде всего русский, а потом уже принадлежит к какому-нибудь сословию» («Ряд статей о русской литературе». Введение, 1861 г.; 18, 57); «право народности есть сильнее всех прав, которые могут быть у народов и общества» (Из объявления о подписке на журнал «Время» на 1863 г.; 20, 210); «…общечеловечность не иначе достигается как упором в свои национальности каждого народа (здесь и далее в цитатах курсив их авторов. — С.С.). // Идея почвы, национальностей есть точка опоры; Антей. Идея национальностей есть новая форма демократии» (Из записной книжки 1863–1864 гг.; 20, 179). «Принцип национальности» для Ф.М. — главный принцип международных отношений: «Прежнее построение Европы искусственно-политическое всё более и более падает перед стремлениям к национальным народным построениям и обособлениям…». Это — «может быть, главная задача 19-го века. Тогда-то и возможны будут правильные международные отношения… Потому что каждая нация, живя для себя, в то же время, уже тем одним, что для себя живёт, — для других живёт…» (Из записной тетради 1864–1865 гг.; 20, 191).
Прогресс России — это прогресс русской нации:
«Мы идём прямо от неё, от этой народности, как от самостоятельной точки опоры, прямо, какая она ни есть теперь — невзрачная, дикая, двести лет прожившая в угрюмом одиночестве. Но мы верим, что в ней-то и заключаются все способы её развития. Мы не ходили в древнюю Москву за идеалами; мы не говорили, что всё надо переломить сперва по-немецки и только тогда считать нашу народность за способный материал для будущего вековечного здания. Мы прямо шли от того, что есть, и только желаем этому что есть наибольшей свободы развития. При свободе развития мы верим в русскую будущность; мы верим в самостоятельную возможность её» (Из объявления о подписке на журнал «Время» на 1863 г.; 20, 210);
«…Мы… убеждены, что не будет в нашем обществе никакого прогресса, прежде чем мы не станем сами настоящими русскими… Наш русский прогресс не иначе может определиться и хоть чем-нибудь заявить себя, как только по мере развития национальной жизни нашей и пропорционально расширению круга её самостоятельной деятельности как в экономическом, так и в духовном отношении…» (Объявление об издании журнала «Эпоха», 1864 г.; 20, 217–219).
Русские — единственный полноправный политический субъект в Российской империи:
«Русская земля принадлежит русским, одним русским… хозяин земли русской — есть один лишь русский (великорус, малоросс, белорус — это всё одно) — и так будет навсегда…» (ДП. 1876. Сентябрь; 23, 127).
Русские — политические лидеры славянства:
«…Надобно, чтоб политическое право и первенство великорусского племени над всем славянским миром совершилось окончательно и уже бесповоротно» (Из письма А.Н. Майкову от 18 февр. (1 марта) 1868 г.; 28, кн. 2, 260).

Культурно-политическая программа Достоевского периода «почвенничества» (первая половина 1860-х гг.) — типичная программа восточноевропейского националиста эпохи Модерна, отмеченная, естественно, отечественной спецификой, связанной с необходимостью преодоления социокультурного раскола русского общества в результате петровских реформ. Оценка последних в этом контексте довольно сурова и близка к славянофильской:
«Петровские реформы создали у нас своего рода statum in statu. Они создали так называемое образованное общество, переставшее… мыслить о Руси, общество, часто изменявшее народным интересам, совершенно разобщённое с народной массой, мало того, ставшее во враждебное к ней отношение… Несомненно то, что реформа Петра оторвала одну часть народа от другой, главной. Реформа шла сверху вниз, а не снизу-вверх. Дойти до нижних слоев народа реформа не успела… С другой стороны, мы чрезвычайно ошиблись бы, если б подумали, что реформа Петра принесла в нашу русскую среду главным образом общечеловеческие западные элементы. На первый раз у нас водворилась только страшнейшая распущенность нравов, немецкая бюрократия — чиновничество. Не чуя выгод от преобразования, не видя никакого фактического себе облегчения при новых порядках, народ чувствовал только страшный гнёт, с болью на сердце переносил поругание того, что он привык считать с незапамятных времён своей святыней. Оттого в целом народ и остался таким же, каким был до реформы; если она какое имела на него влияние, то далеко не к выгоде его… Оттого петровская реформа принесла характер измены нашей народности, нашему народному духу… народ отрёкся от своих реформаторов и пошёл своей дорогой — врозь с путями высшего общества… Земство разошлось с служилыми сословиями… Бюрократия развивалась в ущерб народным интересам, давление сверху становилось тяжелей и тяжелей, возбуждая больший упор в народе. Крепостное право усиливалось, об образовании народа думали только немногие горячие головы. Сословный быт развивался в ущерб низшим классам. Высшие классы скоро утеряли самый язык, на котором говорила масса. Чужестранный элемент развился в небывалых размерах, и по обстоятельствам, по общественному своему положению, владея материальной силой, старался забрать в свои руки чуждый ему народ. Интересы разошлись до того, что всякое искреннее сочувствие народным интересам, выходившее не из народной среды, принималось массой с недоверчивостью, даже с неудовольствием, потому что она не могла понять, каким это образом господа могут хлопотать о мужике: горькая действительность несколько раз убеждала его, сколько лжи и обмана, сколько узкого эгоизма и своекорыстия скрывается иногда под видимым участием. В точно таких же почти отношениях находятся и теперь эти две силы, разошедшиеся друг с другом очень давно. И теперь сколько разбивается самых лучших намерений в интересах народа, именно потому, что народ не верит в их искренность… к нашему брату он не чует никакой привязанности, нет у нас с ним общих, связывающих уз, нет общих интересов. Вот и кажемся мы народу в некотором роде татарами, нехристями… Родились мы на Руси, вскормлены и вспоены произведениями нашей родной земли, отцы и прадеды наши были русского происхождения. Но, на беду, всего этого слишком мало для того, чтобы получить от народа притяжательное местоимение „наш“…» («Два лагеря теоретиков», 1862 г.; 20, 7–17).
В то же время Достоевский, в отличие от славянофилов, считал образованность, полученную верхами с Запада, необходимым элементом дальнейшего развития России. Её будущее виделось писателем как синтез «народных» и «общечеловеческих» (европейских) начал, синтез этот символизировала для Ф.М. фигура Пушкина. С одной стороны, интеллигенция должна приникнуть в поисках вековечных национальных идеалов к «нетронутой ещё народной почве»:
«Русское общество должно соединиться с народной почвой и принять в себя народный элемент. Это необходимое условие его существования…» («Книжность и грамотность». Статья первая, 1861 г.; 19, 7); «нравственно надо соединиться с народом вполне и как можно крепче;… надо совершенно слиться с ним и нравственно стать с ним как одна единица» (Из объявления о подписке на журнал «Время» на 1863 г.; 20, 209).
С другой стороны, интеллигенция обязана передать народу своё европейское просвещение, ту сумму знаний, которую она накопила за «петербургский период».
Всеобщая грамотность мыслилась писателем как важнейший фактор национального единства:
«Только образованием можем завалить мы… глубокий ров, отделяющий нас от родной почвы. Грамотность и усиленное распространение её — первый шаг всякого образования… Мы приносим на родную нашу почву образование, показываем, прямо и откровенно, до чего мы дошли с ним и что оно из нас сделало. А затем будем ждать, что скажет вся нация, приняв от нас науку, будем ждать, чтоб участвовать в дальнейшем развитии нашем, в развитии народном, настоящерусском, и с новыми силами, взятыми от родной почвы, вступить на правильный путь. // Знание не перерождает человека: оно только изменяет его, но изменяет не в одну всеобщую, казенную форму, а сообразно натуре того человека. Оно не сделает и русского не русским; оно даже нас не переделало, а заставило воротиться к своим. Вся нация, конечно, скорее скажет свое новое слово в науке и жизни, чем маленькая кучка, составлявшая до сих пор наше общество» («Книжность и народность». Статья первая; 19, 20).
Достоевский справедливо полагал, что распространение грамотности будет способствовать преодолению не только культурного раскола между верхами и низами, но и раскола социального, ибо «грамотность… у нас… есть привилегия» («Ряд статей о русской литературе». Введение; 18, 65); «настоящее высшее сословие теперь у нас — сословие образованное» («Книжность и народность». Статья первая; 19, 19). Но и собственно социально-эмансипационные реформы он также считал крайне важными: нужно «облегчить общественное положение нашего мужика уничтожением сословных перегородок, которые заграждают для него доступ во многие места» («Два лагеря теоретиков»; 20, 20).
Только при этих условиях возможно подлинное национальное единство:
«Тогда только выработается именно тот общественный быт наш, такой именно, какой нужен нам, когда высшие классы будут опираться не на одних только самих себя, а и на народ; тогда только может прекратиться эта поразительная чахлость и безжизненность нашей общественной жизни. И вот когда у нас будет не на словах только, а на деле один народ, когда мы скажем о себе заодно с народной массой — мы, тогда прогресс наш не будет идти таким медленным прерывистым шагом, каким он идёт теперь» («Два лагеря теоретиков»; 20, 19).
* * *
Достоевский трезво понимал, что эмпирическая Российская Империя весьма далека от его идеала, что русские — хозяева России только в теории, на практике же:
«Над Россией корпорации. Немцы, поляки, жиды — корпорация, и себе помогают. В одной Руси нет корпорации, она одна разделена. Да сверх этих корпораций ещё и важнейшая: прежняя административная рутина. Говорят: наше общество не консервативно. Правда, самый исторический ход вещей (с Петра) сделал его не консервативным. А главное: оно не видит, что сохранять. Всё у него отнято, до самой законной инициативы. Все права русского человека — отрицательные. Дайте ему что положительного и увидите, что он будет тоже консервативен. Ведь было бы что охранять. Не консервативен он потому, что нечего охранять. Чем хуже, тем лучше — это ведь не одна только фраза у нас, а к несчастью — самое дело» (Из записных тетрадей 1880–1881 гг.; 27, 49–50).

Уровень свободы простого русского человека — «ровно как у мухи, попавшей в тарелку с патокой» (ДП. 1881 г.; 27, 17). Что же делать? Как воплотить идеал в реальность? Как сделать так, чтобы русские были действительными хозяевами своей земли? Казалось бы, ответ ясен: дать русским вместо «отрицательных» — «положительные» права, превратить подавляющее большинство русского этноса — крестьян — в полноправных граждан империи, продолжать реформы 60-х гг., т.е., в общем, развивать и уточнять ту программу, с которой сам же писатель и выступал в период издания журнала «Время»… Но странное дело, начиная с начала 70-х гг. пропаганда реформ из публицистики Ф.М., по сути, исчезает (скажем, он практически не обращается к столь волновавшей его ранее проблеме всеобщей грамотности). Зато в ДП всё большее место занимает ядовитая критика русского либерализма, который под пером автора «Бесов» становится чуть ли не главной помехой истинно национальному развитию России, ибо его квинтэссенция, якобы — презрение к русскому народу как к «недостойной, варварской массе» (26, 35) и отрицание его идеалов.
Возможно, были в среде русского либерализма персонажи, напоминающие эту карикатуру, но в ней невозможно узнать таких его вождей, как К.К. Арсеньев, А.Д. Градовский, К.Д. Кавелин, А.Н. Пыпин, Б.Н. Чичерин… Особенно важна здесь фигура Градовского, запальчивой и предельно резкой полемике против которого Достоевский посвятил третью главу ДП за 1880 г. Этот учёный-правовед и публицист был, пожалуй, самым ярким представителем русского национал-либерализма XIX в., стремившимся к органическому синтезу западничества и славянофильства (о последнем он много и с большим уважением писал). Градовский достаточно чётко и внятно изложил свою социально-политическую программу в статье 1879 г. «Социализм на западе Европы и в России»:
«Достроить крестьянскую реформу, т. е. преобразовать податную систему, обеспечить свободу передвижений и открыть возможность правильного переселения крестьян; привести в правильную систему новые судебные и „общественные“ учреждения, пересмотреть разные старые уставы, остающиеся ещё в силе и даже пускающие свои ростки в учреждения новые; устранить разные „поправки“, внесённые в новые законы во имя старых требований; обратить к деятельности по местным учреждениям лучшие силы страны, зная, что в этих учреждениях — школа и фундамент будущей России; воспитывать общество в сознании права, в уважении к себе и другим, в чувствах личной безопасности и достоинства; поднять уровень народного образования широким распространением школ и других орудий грамотности — таковы задачи нашего времени».
Скажите на милость, что тут антинационального, что тут вредного для русских? Программа реальных дел, отвечающая на реальные вызовы времени, весьма близкая к тому, что проповедовал некогда и сам Достоевский. Но в ДП ничего подобного мы не встретим.
Зато в изобилии найдём красноречивые рассуждения о смирении русского мужика и его любви к страданию; об особых отношениях в России между царём-отцом и народом-детьми (в силу чего в любой момент царь-отец может дать народу такую неслыханную свободу, которая и не снилась гнилым западным демократиям); о том, что главное в политике — не совершенствование общественных учреждений, а христианские идеалы, будто бы способные сами по себе преобразить русское общество.
Градовский и Кавелин вполне резонно возражали Достоевскому, что одна только личная христианская нравственность, без юридически закреплённой перестройки социальных практик, не может улучшить положение народа. Перестройка эта, однако, после 1866 г. начала заметно буксовать, — самодержавие явно не желало предоставлять обществу реальные гражданские свободы. Перед интеллигенцией, поддержавшей реформы 60-х гг. и поверившей в реформаторский потенциал самодержавия, встал выбор: либо перейти в оппозицию, либо «верить, ибо абсурдно». Либо требовать в той или иной форме ограничения самодержавия и участия представителей общества в управлении государством, либо ждать, пока самодержавие само «возьмётся за ум» и стоя на коленях умолять его об этом. Достоевский выбрал второй вариант ({{3}}), примкнув к «охранителям» типа В.П. Мещерского и К.П. Победоносцева, которые высоко ценили такого полезного союзника. В начале 80-х писателя уже благожелательно принимает сам цесаревич — будущий Александр III. Не удивительно, что его национализм стал выписывать весьма причудливые пируэты, подменяя конкретный разговор о конкретных проблемах романтическими фантазиями.
Вместо обсуждения системы практических мер, позволивших бы выбраться «мухе из тарелки с патокой» (но невозможных при сохранении статус-кво), — пафосная (и ни к чему не обязывающая) речь об «оздоровлении корней». Вместо серьёзной дискуссии о возможных формах народного представительства в России — огульное отрицание последней как «аристократии интеллигенции» и выдвижение фантастического проекта (в духе «прямой демократии») опроса «серых зипунов» «по местам, по уездам, по хижинам» (ДП. 1881; 27, 21). Типичный «охранительский» приём — представить свою позицию как супердемократическую в противовес «формальной», «ненародной» демократии либералов, самозвано приватизировав себе право говорить от имени многомиллионных низов.
Всё более мистифицированный облик приобретал и мессианизм Достоевского. Идея о всемирном призвании русского народа, о его «всечеловечности» была выдвинута им ещё в начале 60-х. Но в середине 70-х она обрела некоторые новые, оригинальные лейтмотивы. В принципе, любой европейский мессианизм (французский, немецкий, даже англосаксонский), настаивая на всемирной миссии своего народа, подчёркивал, что суть её не в национальном эгоизме, а в самоотверженном служении человечеству. Но только у Ф.М. эта идея приобрела отчётливо самоуничижительный оттенок:
«Мы сознали… всемирное назначение наше, личность и роль нашу в человечестве, и не могли не сознать, что назначение и роль эта не похожи на таковые же у других народов, ибо там каждая народная личность живёт единственно для себя и в себя, а мы начнём теперь, когда пришло время, именно с того, что станем всем слугами, для всеобщего примирения. И это вовсе не позорно, напротив, в этом величие наше, потому что все это ведёт к окончательному единению человечества. Кто хочет быть выше всех в царствии Божием — стань всем слугой. Вот как я понимаю русское предназначение в его идеале» (ДП. 1876. Май; 23, 47). «…Почему они [европейцы] всё не могут никак в нас увериться раз навсегда, поверить в безвредность нашу, поверить, что мы их друзья и слуги, добрые слуги, и что даже всё европейское назначение наше — это служить Европе и её благоденствию» (ДП. 1881; 27, 34).
Почётная роль всемирного слуги вытекает из якобы природных свойств русского характера, более того, оказывается, быть слугой — и значит быть господином:
«Посмотрите на великоруса: он господствует, но похож ли он на господина? Какому немцу, поляку не принуждён ли он уступить. Он слуга. А между тем, тем-то — переносливостью, широкостью, чутьём своим он и господин» (Из записной тетради 1876–1877 гг.; 24, 309).

Диалектика «слуга-господин» и «русское-всечеловеческое» приобретает у Достоевского настолько запутанный характер, что вряд ли возможна её логически непротиворечивая интерпретация. С одной стороны, основополагающий лозунг писателя:
«Стать русскими во-первых и прежде всего» (ДП. 1877. Январь; 25, 23).
С другой, онтологическая суть «русскости» — «всечеловечность», т. е. служение другим народам, чем, собственно, по его мысли, русские и занимались весь «петербургский период», «ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо больше, чем самой себе?» (ДП. 1880; 26, 148). Таким образом, Ф.М., в сущности, призывает Россию продолжать ту же политику «служения Европе», но только с осознанием того, что она это делает не по глупости, а во имя исполнения своей великой миссии, коей надобно не стыдиться, а, напротив, гордиться. Тогда изменится отношение к России и в Европе:
«…Как только европеец увидит, что мы начали уважать народ наш и национальность нашу, так тотчас же начнёт и он нас самих уважать» (ДП. 1877. Январь; 25, 23).
«Слуга» остаётся «слугой», просто теперь он должен воображать, что «слуга», на самом деле, «господин», и надеяться, что те, кому он служит, это открыто признают.
Впрочем, кто-то может сказать, что смирения в этой идее паче гордыни, что настойчивое навязывание себя в качестве «слуги» на самом деле — это просто закамуфлированная форма «воли к власти», что упорное стремление брататься с теми, кто этого не желает, выглядит как «принуждение к братству» и т. д. И такая точка зрения вполне заслуживает обсуждения…
* * *
Подведём итоги. Национализм Достоевского был подлинным и глубоким, но эволюция автора «Карамазовых» в сторону «охранительства» привела к тому, что национализм этот в практическом отношении оказался выхолощенным — реальную повестку дня заменили компенсаторные мечтания. Из «программы» позднего Достоевского «в сухом остатке» вытекало только одно: послушание начальству. Впрочем, это свойственно любому охранительному национализму всех времён и народов. Нельзя сомневаться в том, что проповедь Ф.М. была по-своему искренней, но в конечном итоге она питалась ощущением бессилия ещё очень слабого русского общества по сравнению с всемогущим самодержавием. И эта сторона национализма великого писателя вряд ли может вдохновить сегодняшних русских, жизненной необходимостью для которых стало обуздание самовластия неэффективного, а порой и преступного правящего режима РФ.
То же касается и пресловутой «русской идеи» Достоевского. Понятно, что перед нами перенесение норм христианской этики в сферу политического, но, не говоря уже об архаичности такого переноса для второй половины XIX в., заметим, что подобная логика нимало не свойственна и русскому православию «допетровского» периода — вряд ли Ф.М. православнее инока Филофея. Корни достоевской «всечеловечности» вовсе не в православной традиции, а в экуменическом мистицизме времён Павла I и Александра I({{4}}).
Странная диалектика «всечеловечности» (русские — хозяева и господа, чья обязанность — быть слугами) отдаёт каким-то мазохистским абсурдом, но в мистифицированном виде она довольно точно воспроизводит реальное положение русских в России как в прошлом, так и в настоящем. Но это именно то наследство, от которого мы сегодня решительно отказываемся, и потому билет свой Фёдору Михайловичу почтительнейше возвращаем.
Мы любим Достоевского. Но не за это.
[[1]]Все ссылки даются по: Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: В 30 т. Сначала указывается номер тома, затем страница.[[1]]
[[2]]Далее — ДП.[[2]]
[[3]]Хотя сомнения его посещали: «Я, как и Пушкин, слуга царю, потому что дети его, народ его не погнушаются слугой царёвым. Ещё больше буду слуга ему, когда он действительно поверит, что народ ему дети. Что-то очень уж долго не верит» (Из записной тетради 1880–1881 гг.; 27, 86).[[3]]
[[4]]Характеризуя политику Павла, Ф.В. Ростопчин писал А.В. Суворову: «Он намерен спасти Европу: всё равно от кого». Это определение вполне подходит и к политике Александра периода Священного союза.[[4]]