Впервые опубликовано в «Новом времени» №9297 21 января 1902 года.
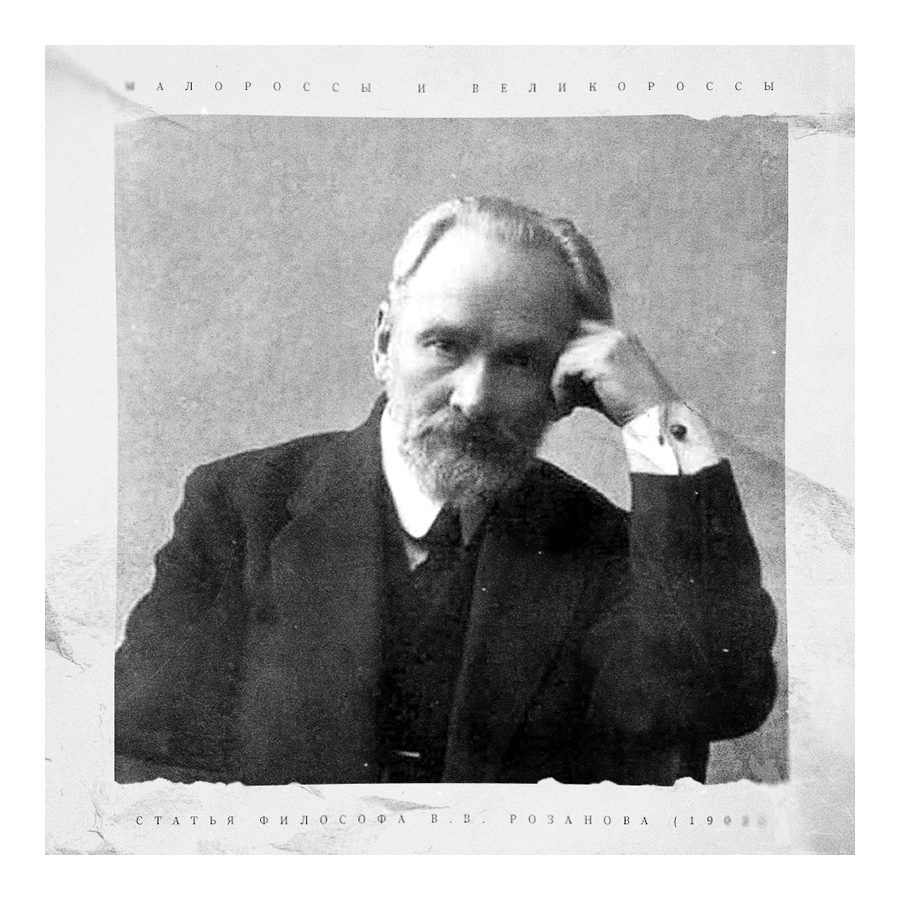
Я знаю в Петербурге одну великорусскую и притом характерную великорусскую семью, чинную, служилую, бородатую, дисциплинированную, но в которой, правда, бабка по матери малороссиянка. У ней есть даровитый мальчик лет семнадцати, гимназист, страстный любитель всякого рода книжности и литературщины. «Вот зачитывается всем о Малороссии, — рекомендовал мне отец, — только и бредит Толстым и Украйной; выучился читать по-малороссийски, подписался на издание памятников южнорусской старины, и все-то ему казаки, и все-то ему сечь, а географические разыскания Старицкого читает так, как мы в свою пору читали Поля-Феваля и Дюма». Я посмотрел на глубоко застенчивого юношу, рослого и неуклюжего, с глубокими умными глазами. Сам я никогда и ничего по-малороссийски не читал и понятия о Малороссии другого не имею, кроме того, что там рубашку засовывают в штаны, да, и говорят, что малороссиянки хороши собою. Так и не сумел сказать я ничего юноше: «Ну что же, только бы читал, а что читает — все равно». Ответ, не остроумный, но в пустом относительно Малороссии сердце я ничего другого не нашел.
Лет семь назад получаю пространное «сочувственное» письмо о моем разборе «Легенды об инквизиторе» Достоевского. Пишет чиновник, уже старый; душа у него горит разными мыслями; но вот что поразило меня где-то на второй или третьей странице длинного письма: «Служу я в лесном ведомстве — вот уже тридцать лет, то по губерниям, то в Петербурге, и нахожу полное удовлетворение и счастье в своей службе и той ощутимой пользе, какую приношу моему дорогому отчеству». Пишет о разных книгах: «Московский сборник» К.П. Победоносцева — лежит у меня на столе около Евангелия, и я вместе с вашей книгой «О понимании» читаю его постоянно». И проч. Потом я с ним познакомился: такого, так сказать, на корню стоящего патриотизма, подобного чувства своей земли и родины, губерний, уездов, православных храмов, включительно до поклонения Толстому и Достоевскому, коих большие портреты повешены были у него на стене среди карточек семьи и видных деятелей лесного ведомства, я не встречал. Кое в чем он сомневался, например в личном бессмертии души, но обо этом не распространялся. Сейчас он уже дедушка; детей имеет десять человек — благовоспитанных, умных, прекрасно идущих в гимназии и университете, без «шалостей». Вот «кем и какими людьми крепка русская земля», думывал я не раз, сидя в его тесной и чистенькой, переполненной домочадцами, квартирке. «Что там литература и великие знаменитости! Пока по земле вот не стелются такие люди, такое население, которого от земли и почвы и отчества своего не отдерешь, все будет нетвердо и эфемерно в истории». Фамилия его, однако, не была ни на «ов», ни на «ский». — «Да я — малороссийского рода. Старые дворяне. Мои сородичи-однодворцы теперь, пашут землю, а я служу», — сказал он мне как-то. Так вот как! Положивший душу свою в петербургскую службу — коренной из коренных хохол. Он хорошо играл на скрипке, но уже ничего малороссийского не выписывал, а выписывал из Москвы «Вопросы философии и психологии». Вообще обрусел, чистосердечно и окончательно.
Третье мое воспоминание о русско-хохляцских отношениях относится к гимназии. Учился со мной товарищ знаменитого великорусского рода, столь же знаменитого, как и Пожарские, и прославившегося в ту же именно пору. Это была семья уже обедневшая (дворянская), но замечательно благородная. Отец их был профессор астрономии, а из сыновей один вышел замечательным музыкантом-композитором, другой — профессором математики, а третий — великим любителем филологии и почему-то преимущественно малороссийской филологии (теперь он профессор славянских наречий). И вот, помню я, забьется он (младший из трех братьев) в далекую комнатку и читает своей няньке (старая их крепостная, великороссиянка) то «Думы» Шевченки, то былины русские, то в изданиях Сахарова и Снегирёва, разные русские поверья, пословицы и проч. Читает и все бывало обращается к анализу языка и грамматических форм, что из чего и как фонетически образовалось. Такого тоже врожденного филолога я потом и среди ученых не встречал. Я тогда сам пылал социальными вопросами и философией: но как я любовался, изредка заходя в его комнатку, а еще чаще в комнатку старушки-няни, всего в два аршина величины, этим союзом науки и остатка старого крепостного права (няня не захотела свободы и осталась при «господах»).
Имея в уме и памяти эти ясные и спокойные картины, просто я постигнуть не могу, когда мне попадаются страницы и строки из русско-хохляцкой будто бы распри, вроде последнего письма г. Д. Мордовцева. «Костомаров говорил, что малороссы даровитее великороссов, и говорил это печатано, а не устно, как высказался Л.Ф. Пантелееву в обратном смысле по поводу саратовских молокан». Но Костомаров, прежде всего, писал на русском, общерусском языке и обогатил русскую науку: вот основной факт; а что к этому же он был и любителем Малороссии, то эта подробность только украшает его ум, увеличивает образование, обогащает сердце. И дай Господи им всем, малороссам, любить свою прекрасную Украйну, не забывать свое отечество — гнездо, но зачем же это противополагать Великороссии, которая есть уже не провинция, а мир, и имеет не историю уголка земного шара, а историю части земного шара. Великоросс универсален. Это вовсе не Москва выросла в России, а именно великоросс, освободившись от губернских особенностей, вырос во всемирную фигуру просто «русского человека», дав серию типов от Губонина до Тургенева, от Петра Великого до прасола — Кольцова, серию всеохватывающую, бесконечно разнообразную, худую во множестве точек, но в других точках — и гениальную, вещую, с огромным захватом вширь земель и даль веков.
Русские странники… Какое это любимое для русских людей занятие просто «пошляться», от Трифона Коробейникова и до сих пор. Идет-идет человек; зайдет в монастырь; но это — не цель, а только перепутье; он идет далее, бродит годы, побывал в Соловках, будет в Киеве, а пока собирается в Сибирь. Да зачем ему! Да это — римлянин, который осматривает свои владения, будущее логово колоссальной державы, о которой он мечтает, воспаленно мечтает (я спрашивал, знаю, выведывал), хотя у него котомка за плечами, а осталось жить неполный десяток лет. Вот где родник русского политического чувства и истинный источник русской державы и державности. Это — не честолюбие. И не славолюбие. Это — мечта какая-то, туманная, охватить весь мир. Для чего? «Так — хорошо». Я помню впечатление одного великоросса от Швейцарии: «Отвратительно, настрижено и перекрошено», — сказал он. Русский не переносит оборванности, прерванности, короткости, миниатюры. На Кавказе, на Военно-Грузинской дороге, среди чудес природы, мне говорил тамбовец-ямщик: «Какая это к лешему страна; Азия (ужасный жест презрения); того и гляди тебя или лошадь зашибет (обвалившимся камнем); то ли у нас в Тамбовской губернии: как на ладоньке вся, идешь-идешь — и все ровно, и по всей России — ровно; а здесь»… и он, не договоря, плюнул. — «Зачем же ты здесь?» — «А заработки. Двадцатый год живу. Другие братья в Тамбове».
В Москве и у Троицы-Сергия я не видел малороссов-странников. Это умный, тихий и глубоко поэтичный народ, но провинциальный. Ему страшно выехать из своей губернии; даже из своего города выехать жутко или не охота, и это не он на ярмарку едет, а ярмарка к нему идет (тип всех малороссийских ярмарок — что они передвижные, странствующие). Евреи оттого и привились к малороссам, как не привились и никогда не смогут привиться к великороссам, что неподвижный и рослый хохол требует хлопот около себя в области купли-продажи, спроса-предложения; ему нужно было чтобы «галушки в рот валились», а не то, чтобы еще нужно было их откуда-то достать, приготовлять и уже в заключении кушать. «Запорожская сечь», я думаю, отчасти и образовалась от лени, а не одного «лыцарства» и усилия защитить «христианство от туретчины». Съел человек все под собою и около себя: теперь бы надо хлопотать, чтобы достать новый корм, торговать, учиться, промышлять; тогда хохол-буйвол с неодолимой энергией отправляться «поцарапать Анатолийские берега» (Гоголь в «Тарасе Бульбе») — ломает, хватает, и, загребя полные руки съедобного и одевательного, ложиться опять на острове Кострице (Сечь) и гнусит песню под нос, как он защитил православие и Русь. Говорят, у носорога есть какая-то птичка, очищающая ему чуть ли не рот от насекомых и от остатков пищи. Вот такую роль теперь и прежде выполняли около малороссов всякие Янкели и Соломоны: сожительство менее вредное и опасное, чем может показаться из Петербурга, где есть соперничество, тогда как на Украйне принципиально нет соперничества. «Марксисты» там ничего не поделают…
Из-за чего малороссу и великороссу ссориться? Малоросс глубоко личен: он свободолюбив, субъективен; по всему вероятию именно малороссы дадут нам философию. Их свободному чувству мы можем завидовать доброй завистью, и, как отличительное наше качество — переимчивость (универсальность), то можем многому научиться у хохлов в сфере свободы личности и красоты быта в частной жизни. Малороссы дали и великих нам государственных людей, Безбородко, Трощинского, но спокойного уклада ума и характера. Ведь чтобы у руля стоять, надобен ум, а колесо рулевое не всякую же минуту надо вертеть. Но всюду, где входит в обязанности и права свои живость, оглядчивость, ежеминутная инициатива и приноровляемость, там малоросса невозможно поставить. Никогда Строгановы, Демидовы, Ермак, Разин или Сперанский, Новиков, Суворов, никогда реформаторы России 60-х годов не могли бы выйти из Малороссии: это — явления великорусские и люди великороссы.
Но великоросс уже принял в свою кровь большие притоки чудской крови (чудь, финны) и монгольской (татары), принял много и немецкой крови (последние два века), вообще он нимало не помышляет и не заботится о чистоте своей породы, об однотонности и монотонности своей крови, а думает только о делах своих в истории. В зависимости от крови, он наименее фанатичен и нетерпим из всех решительно славянских племен. Уж если в Сибири мы переимчивы даже относительно якутов, а кубанские и терские казаки переимчивы относительно лезгин и проч., вообще если мы имеем прекрасный дар пластической влюбленности и пластического отражения в себе окружающих людей и стран, то не для чего зеркало души своей закрывать только перед хохлом, фанатичным провинциалом, одиночкой, умницей, который обогатил нас на целого Гоголя. А ведь Гоголи не рождаются как грибы, и, отдав нам такой гений, может быть, Малороссия тем самым и уже добровольно снизошла навсегда на степень провинциализма слова и литературы. За этот великий дар, да и за много, что уже дала нам Украйна, и еще что она даст нам в будущем, мы, конечно, должны положить этот «край» свой ближе всего к сердцу; мы должны сами лелеять и малорусскую песню, и всякий малорусский обычай, и каждую ниточку их своеобразия и своеобличья. Право, на месте правительства я заказал бы Петербургской академии наук «Словарь хохлацких говоров», параллельно «Словарю великорусского языка» Даля и «Русскому словарю» академического издания. Конечно, я не проектирую, а только намекаю, каким путем здесь следовало бы идти.
И едва малороссы увидели бы, что мы русские, их слышим и поем, что мы уже давно не великоруссы, а общеруссы и всеруссы, все их раздражение против нас, и выражающееся в разных «сепаратизмах», разумеется, бы умерло. Центр украйнофильства в великороссофильстве. Как только мы сами теряем универсальность, мы получаем вокруг себя сепаратизмы. Мы от идей великого Рима, возвращаемся к Лациуму первых консулов, а где Лациум — там и враждебный ему Самниум. Все это пройденные детские, археологические ступени нашей истории. После Петра Великого бороться с «Кобзарем» Тараса Шевченко все равно, что после Брюллова и Репина возвращаться к лубочным картинам в издании Равинского. Петр Великий выучил бы сам и для себя какую-нибудь «думу» ввел бы бандуру и казачка в какое-нибудь роскошное петербургское уличное представление, и этой любовью, этой переимчивостью прихлопнул бы навсегда малороссийский культурный вопрос, как лезгины в «конвое Его Величества» в Петербурге прикончили историю лезгинского племени и языка на Кавказе. Август римский всех чужеродных богов сносил в Пантеон; и все боги умерли, кроме Юпитера. Рассказав несколько случаев в начале из русского чувства к малороссам, я указал, что и в русском сердце есть такой же психический пантеон, куда чем более мы внесем чужеродного, и хохлацкого, и даже польского, чешского и проч., тем выше подымится «бог Русской земли»…



