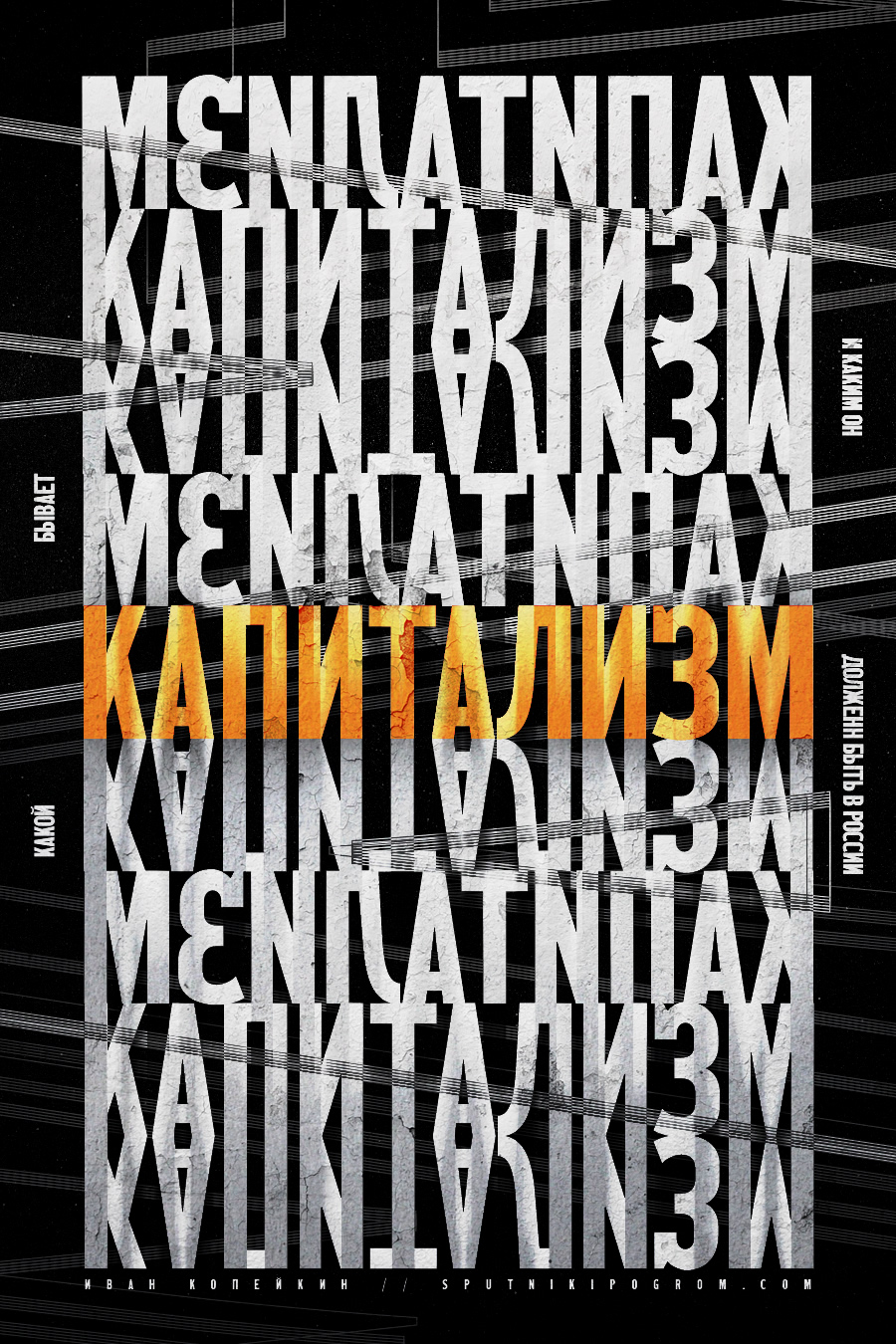
Экономический рост и равенство (зачастую, конечно, его отсутствие) — не будет преувеличением сказать, что в этих нехитрых координатах вращается вся современная экономическая наука. Модель развития, при которой граждане отдельно взятого государства живут более-менее одинаково хорошо и с каждым годом только лучше, не то чтобы проговаривается, но подразумевается как некий утопический идеал. Ключевое слово — утопический. По умолчанию, конечно, принято полагать, что итогом экономического развития когда-нибудь станет полное искоренение неравенства; на этом постулате базируется современная теория капитализма и свободного рынка. Об этом еще в середине 1950-х говорил американский экономист Саймон Кузнец, утверждая, что неравенство — всего лишь естественный процесс в развитии любого индустриального общества и что со временем разрыв в доходах различных слоев общества только сокращается.
На деле же все выглядит совсем не так оптимистично. Не зря Нобелевскую премию по экономике дают шотландцу Энгусу Дитону за многолетнее исследование проблем бедности и потребления, а главным экономическим бестселлером последних лет становится 700-страничный труд француза Томаса Пикетти «Капитал XXI века», в котором автор долго и упрямо доказывает одну простую мысль: развитие мировой экономики в прошлом веке если к чему и привело, то только к усилению имущественного неравенства.
С этой точки зрения, одной из самых интересных и спорных работ последнего времени представляется небольшой доклад под названием «Разве мы не можем взять пример со скандинавов? Ассиметричный рост и институты во взаимосвязанном мире» («Can’t we all be more like Scandinavians. Assymetric growth and institutions in an interdependent world»), представленный в 2012 году коллективом из трех экономистов: Дароном Аджемоглу из Массачусетского технологического университета, Джеймсом Робинсоном из Гарварда и Терри Вердье из Парижской школы экономики. Примечательна эта работа тем, что ее авторы пытаются в меру своих сил ответить на главный вопрос экономики: могут ли вообще высокие темпы экономического роста и социальное благополучие идти рука об руку? Ответ — скажем, забегая вперед — далеко не самый очевидный.
Знакомство
Про Аджемоглу и Робинсона следует знать следующее: последние пятнадцать лет они работают на ниве неоинституционализма и объектом своего интереса видят сложные переплетения и взаимосвязи экономических, политических и социальных процессов в отдельных государствах. В том же 2012 году увидела свет их совместная книга «Несостоявшиеся народы: об истоках власти, богатства и бедности» (Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty), которую многие рецензенты не постеснялись сравнить с эпохальным «Исследованием о природе и причинах богатства народов» Адама Смита.
Неоинституционализм — штука крайне полезная и занимательная, но вместе с тем в какой-то мере опасная. За примерами далеко ходить не надо: многие российские экономисты еще до выхода «Несостоявшихся народов» не справились с искушением принять за аксиому тезис «без правильных институтов не может быть стабильного экономического роста». Именно к этому выводу приходят господа Аджемоглу и Робинсон, выдвигая в качестве общемирового идеала демократию западного образца: ей присущи так называемые институты широкого представительства (inclusive institutions), делающие политическую элиту подотчетной народным массам и стимулирующие предпринимательскую активность. Второй тип институтов в классификации авторов — «институты изъятия дохода» (extractive institutions). В принципе, российская действительность — сама по себе наглядный пример такого утверждения: в ней есть Игорь Сечин, фантазер Дмитрий Медведев, путинский клуб друзей, смежный с ним уютный кружок по госзакупкам и нет никакого экономического роста. Так что неудивительно, что небольшая рецензия патриарха либеральных реформ в России Евгения Ясина на «Несостоявшиеся народы» на «Эхе Москвы» озаглавлена «Ещё раз о мотивах выбора Запада и, кроме того, рыночной экономики и демократии».
С другой стороны, неоинституциональная дискуссия, ведущаяся в РФ, носит явно деструктивный характер: дискредитирует нынешнюю экономическую модель страны, не предлагая альтернативной политики роста. Что самое прискорбное — она очень нравится чиновникам и экономической элите: отдав свой голос идеальным институтам, можно успокоиться и больше ничего не делать: ответственность за институты лежит на всей стране и вместе с тем — ни на ком конкретном. В итоге мы имеем нулевые темпы экономического роста, Сочинский центр для школьников, проявляющих особые способности в спорте, искусстве и творческих науках как отправную точку некой эфемерной реформы образования и Алексея Кудрина, пишущего какую-то невнятную президентскую программу.
Экономический рост
Вернемся к «скандинавам». Из названия понятно, что авторов «Несостоявшихся народов» интересует в первую очередь феномен скандинавского капитализма: шведам, норвежцам, датчанам и финнам, на первый взгляд, удалось решить описанную выше экономическую задачку и объединить высокие темпы экономического роста с обществом всеобщего благоденствия. Рассматривать четверку скандинавских стран в отрыве от остального мира авторы не могут, поэтому в компанию им подбирают США — идеальную, на их взгляд, демократию и экономику. Мы, в свою очередь, постараемся не застревать в этих координатах, добавив в анализ Россию и пару развитых восточных стран: например, Японию и Корею.
С экономическим ростом у скандинавов и американцев действительно все хорошо. Между 1980 и 2008 годом ВВП на душу населения в Дании, Норвегии, Швеции и Финляндии росли в среднем на 1,6–2,1% в год. США в этот же период демонстрировали среднегодовые темпы роста на уровне 1,67%. Эти цифры могут показаться невпечатляющими, но стоит заметить, что в 1970–1990 годах общемировой рост производства на душу населения составлял всего 1,3%, ускорившись до 2,1% в 1990-х — и то благодаря догоняющему развитию Азии. Если посмотреть на динамику ВВП на душу населения, выраженного в постоянных долларах США 2005 года, то окажется, что все пять стран начиная с 60-х развивались почти в одном тренде, к 2007 году уровень их благосостояния не сильно отличался и находился в диапазоне 42,3 тыс. долларов для самой «бедной» Финляндии — 50,6 тыс. долларов для «богатейшей» Дании. Разрыв — 19%. Несколько выбивается из тренда Норвегия с 69 тыс. долларов на душу населения, но это объясняется сверхдоходами от ее нефтегазового сектора: как раз на середину 70-х пришелся стремительный рост нефтяных цен. Примечательна динамика Финляндии, которой удалось за семь лет выбраться из экономического спада 90-х, вызванного развалом СССР, и вернуться в скандинавско-американский тренд. Япония к 2008 году оказалась бы даже богаче Дании, если бы не многолетняя депрессия, стартовавшая в начале 90-х. Что касается России, то жалкие 6 тыс. долларов на душу населения говорят сами за себя.
Динамика ВВП по паритету покупательской способности (Всемирный банк считает ее только с 1990 года и приводит в долларах 2011 года) дает чуть более разношерстную, но и куда более близкую к реальности картину (так, США оказываются богаче скандинавской тройки — за исключением Норвегии, а Россия уже не выглядит таким уж аутсайдером). Но, в любом случае, единый тренд, в котором движутся выбранные для анализа государства, сохраняется. Разрыв в доходах между «богатейшими» США и «беднейшей» Финляндией составляет 20%, между США и Японией — 45%, между США и Россией — 140%. Еще одно сравнение — по всему Евросоюзу ВВП (ППС) на душу населения в 2008 году составлял 35 тыс. долларов, у Финляндии — 42 тыс. долларов: условный скандинав живет лучше среднестатистического европейца.
Равенство и социальное обеспечение
Но если с точки зрения экономического роста американцы могут поспорить со скандинавами, то на поле социального равенства выигрывают северяне. Вот что пишут Аджемоглу, Робинсон и Вердье:
В Соединенных Штатах нет того типа государства всеобщего благосостояния, которое удалось построить во многих европейских странах, включая Данию, Финляндию, Норвегию и Швецию; несмотря на недавние реформы в сфере здравоохранения (имеется в виду программа Medicare Барака Обамы — S&P), большинство американцев не могут похвастаться столь же высокими стандартами здравоохранения, как в европейских странах. В Америке меньше праздничных дней, короче отпуска (в том числе декретные) и в принципе нет такого спектра социальных услуг, как в континентальной Европе. Неравенство в Соединенных Штатах выше, и за последние три десятилетия оно только возросло. Почти 25% совокупного национального дохода принадлежит 1% населения, в то время как для Финляндии и Швеции это приблизительно 5%.
Пассаж про четверть национального дохода, сосредоточенного в руках 1% населения, не совсем соответствует действительности. Доля верхней центили (1% самых высоких доходов) в национальном доходе США перед кризисом не превышала и 18%. Но разница между Америкой и Северной Европой, действительно, впечатляет. В Дании 1% самых богатых аккумулирует 6,4% национального дохода, в Швеции — 6,9%, Японии — 9,5%. Что примечательно, в начале 70-х цифры были такими: 7,8% национального дохода для США, 6,2% — для Швеции, 8,2% — для Дании и Японии. Другими словами, в Америке за минувшие 40 лет произошел совершенно взрывной рост неравенства: 1% богатейших людей получили около 60% прироста национального дохода.
Но верхняя центиль — это все же мир супербогатых людей. Куда показательнее может быть доля верхней децили (10% самых высоких зарплат). В 1950 году, после военных потрясений, в национальном доходе Швеции она составляла 29%, в США — 33%. К 1980 году цифры были следующими: в Швеции неравенство сократилось до 22% национального дохода, в Соединенных Штатах выросло до 37%. Затем неравенство и в Новом Свете, и в Скандинавии росло: доля верхней децили в национальном доходе Швеции в 2010 году составила 28%, вернувшись к послевоенным уровням. В Америке же последовал беспрецедентный рост доли верхней децили — до нынешних 47% (50%, если учитывать не только трудовые доходы, но и доходы с капитала).
Важно сразу оговориться: идеализировать одни только скандинавские страны не стоит. По сравнению с США неравенство значительно ниже не только в Швеции, Дании или Японии, но и во всей Европе (доля верхней децили в национальном доходе Старого Света — 35% против 40% в 1900 году). Если же обратиться к статистике развивающихся и бедных стран, то ситуация с неравенством окажется парадоксальной: по оценкам Томаса Пикетти, в Индии доля верхней центили в национальном доходе — 12%, в ЮАР — 16%, в Китае — 11%, в Индонезии — 13%. И все это ниже, чем в США.
Децильный коэффициент и коэффициент Джини тоже помогают разглядеть большой разрыв между США и скандинавскими странами. Так, доход 10% богатейших американцев составляет 214% от медианного по стране, доход 10% их беднейших соотечественников — 38% от медианного. Разрыв впечатляет — почти 5,5 раз (с учетом всего разнообразия налогов и сборов, взимаемых с частных доходов). В скандинавских странах он не превышает 3 раз. Для сравнения, в России децильный коэффициент составлял в 1995 году 9,39, в Японии в начале 90-х — 4,19. Отдельного внимания заслуживает Финляндия: экономический спад начала 90-х не привел к увеличению неравенства в стране: по значениям децильного коэффициента и коэффициента Джини финны опережали норвежцев и датчан.
Приведенные нами значения коэффициентов для большинства стран относятся к середине 90-х. С тех пор многое изменилось, и здесь в первую очередь хотелось бы обратить внимание на ситуацию с неравенством в США и России. Для России образца 1995 года коэффициент Джини составлял 0,44, для США в 1997 году — 0,37. По данным ЦРУ, в 2007 году значение этого показателя в США составляет уже 0,45, для России 2012-го — 0,42. Другими словами, в последние десятилетия ситуация в Россия с точки зрения неравенства улучшилась и сравнялась с американской. Согласно исследованию зарплатного неравенства, проведенному в 2013 году РИА-Новости, коэффициент Джини в РФ и вовсе составил 0,38. Такое расхождение между данными, конечно, заставляет сомневаться в точности расчетов, но тенденция в любом случае налицо. При этом разница между различными регионами нашей большой страны совершенно фантастическая. Наименьшее значение коэффициента Джини РИА-Новости фиксируют в Белгородской области — 0,28, наибольшее — в Чечне (0,4).
Вообще, описывать социальное государство с точки зрения одних только индексов неравенства было бы неверно. Принято считать, что сам по себе феномен социального государства опирается на два столпа: высокие отчисления в бюджет и высокие социальные расходы. Так, в США доля налоговых отчислений к ВВП выросла с 23,5% в 1965 году до 28% в 90-х и 2000-х. А в Швеции и Финляндии — с 30 до 46–49%, в Японии — с 17 до 28%. Во Франции и Великобритании налогоплательщики отчисляют в бюджет 49 и 40% ВВП соответственно. В России со второй половины 2000-х и до наших дней отношение налогов к ВВП по разным оценкам колебалось от 34 до 37% ВВП. Это достаточно высокое значение. В ряде развивающихся стран, конкурентов России за получение инвестиций, налоговая нагрузка существенно ниже. Это, например, Чили, Мексика, Корея и Турция — отношение налоговых доходов к ВВП у первой пары составляет примерно 20%, у второй — примерно 25%.
Теперь посмотрим на социальные расходы. В Дании их отношение к ВВП с 80-х до 2010-х увеличилось с 24 до 35%, в Финляндии — с 18 до 35%, в Норвегии — с 16 до 28%, в Швеции — с 26 до 34%, в США — с 13 до 23%, в Японии — с 10 до 23%. Что касается России, то в начале 2000-х на социалку правительство тратило около 16–17% ВВП, после кризиса 2008 года социальные расходы выросли до 21%. Стоит упомянуть, что расходы на выплату многочисленных пособий и здравоохранение в принципе высоки во всех развитых странах Европы: 28% ВВП у Италии, 30% у Бельгии, 31% у Франции. Небольшая, но интересная деталь. В скандинавских странах расходы на здравоохранение в общей сумме социальных расходов ниже, чем в других развитых странах: 18–20% против 34% у США, 30% у Японии, 28% у Великобритании. Меньше только у России — всего 14%. Расходы на образование во всех развитых европейских странах составляют в среднем 5–6% ВВП, в США — 4,7%, в Японии и России — 3,5%.
Всеобъемлющий характер: государственная политика имеет широкий охват; по сравнению с другими странами, государство играет здесь бóльшую роль, нежели рынок или гражданское общество.
Отвлечемся напоследок от скучных цифр и попробуем описать скандинавское социальное государство с качественных позиций. Ряд общих признаков в 2003 году сформулировал Джон Квист из Датского национального института социальных исследований:
Полная занятость: политика направлена на обеспечение полной (читай: более полной) занятости населения и/или предупреждение безработицы, особенно длительной.
Равенство: политика имеет целью увеличение равенства между различными гендерными, возрастными, классовыми, семейными, этническими, религиозными, региональными и прочими группами.
Универсальность: право на основные социальные гарантии (в натуральном и денежном выражении) для широкого спектра социальных обстоятельств и жизненных ситуаций.
Высокое качество этих гарантий: социальные услуги имеют высокое качество и предоставляются профессионалами в данной сфере.
Щедрость гарантий: денежные трансферы, особенно для низкодоходных групп, достаточно щедры, чтобы обеспечить «нормальный» уровень жизни».
Инновации
В чем-то Новый Свет все-таки должен быть лучше Северной Европы. Такое преимущество авторы обнаруживают, когда вводят в сравнение третий (после экономической динамики и неравенства) параметр — инновационность бизнеса (технологический прогресс):
По общему мнению, экономика Соединенных Штатов более инновационна. У американских предпринимателей и работников есть больше стимулов для того, чтобы работать усерднее и принимать на себя большие риски. В результате за последние десятилетия американская экономика сыграла ключевую роль в развитии большого спектра технологий: от программного обеспечения до фармацевтики и биоинженерии.
Но как можно оценить уровень инновационности или технологического прогресса в той или иной стране? Самое очевидное решение — через патентную активность. Однако по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (World Intellectual Property Organization — WIPO) никакого разрыва между скандинавами и американцами здесь не существует. Наоборот, в 1995–2002 годах Финляндия и Швеция по числу патентных заявок на миллион человек населения обгоняли США. Возьмем для примера 1996 год: 631 заявка у Швеции, 603 — у Финляндии и только 437 — у США. И совсем ничтожными выглядят эти достижения на фоне Южной Кореи и Японии с 1466 и 2770 заявками на миллион человек населения соответственно. В дальнейшем разрыв между Востоком и коллективным Новым и Старым Светом только увеличивался. Россия в этом соревновании безнадежно проигрывает: с 1992 года число патентных заявок на миллион человек населения не превышало 204 штук. Примерно здесь же находится и нефтяная Норвегия: максимальное значение показателя за все время наблюдения — 359 заявок в 2009 году.
Но Аджемоглу, Робинсон и Вердье находят довольно изящное решение. Справедливо рассудив, что подать заявку на патент может каждый, но зарегистрировать по-настоящему прорывную технологию или изобретение способны лишь единицы, они собирают данные обо всех американских и скандинавских патентах, зарегистрированных с 1980 по 1999 год, и ранжируют их по числу цитат. В итоге получается довольно красноречивая картина. На сто американских патентов, процитированных от силы пару раз, приходится около 50 таких же не самых востребованных патентов в Швеции, 30 — в Финляндии, 20 — в Дании и чуть более 10 — в Норвегии. Что касается патентов, на которые сделано больше 50 ссылок, то на сто американских приходится 30 шведских и финских, 10 датских и 5 норвежских.
Таким образом, большая инновационность американской экономики выглядит доказанной (жаль, правда, что авторы не проделывают аналогичное упражнение для азиатских государств). Смущает только одно: данные по числу патентов взяты из базы данных Ведомства по патентам и товарным знакам США (United States Patent and Trademark Office — USPTO). Другими словами, Аджемоглу, Робинсон и Вердье автоматически предполагают, что наиболее перспективные патенты изобретатели по всему миру регистрируют не у себя дома, а в американском патентном бюро. Выглядит, конечно, как грубая подтасовка фактов, но не будем придираться.
Чтобы не ограничиваться выкладками Аджемоглу и его коллег, мы можем взглянуть и на такой показатель, как объем совокупных расходов на R&D. Наиболее полные данные по странам дает Организация экономического сотрудничества и развития — правда, приводятся они только с 1981 года (а по некоторым странам — с начала 90-х). Как видно, на сегодняшний день США и здесь не являются лидерами, направляя на НИОКР в среднем 2,5–2,7% ВВП. Почти все рассматриваемые страны тратят больше. Например, в Японии и Южной Корее эти траты доходят до 3,5–4% ВВП. Примечателен Израиль, где с начала 90-х расходы выросли с 2,24% ВВП до рекордных 4,21% в 2013 году. Меньше Америки тратят Россия и Норвегия, что вполне коррелирует с их положением на предыдущем графике. Что самое интересное, в России не просто низкие затраты на НИОКР, но еще и довольно сомнительная их структура. В 2008 году 64,7% всех вложений были профинансированы государством, 29,3% — частными компаниями, 5,9% — иностранцами. Это довольно близко к показателям ЕС, где доля государства в финансировании НИОКР в среднем составляла 50,8%. С другой стороны, в наиболее развитой Германии эта цифра уже 27,7%, как и в США. В Корее и Японии еще ниже — 24,8 и 15,6%. И даже в социалистическом (казалось бы) Китае — всего лишь 24,6%.
Вернемся к США и скандинавам. В самом начале 80-х расходы США на исследования были выше, чем у всех рассматриваемых стран. Получается довольно интересная ситуация: некоторые страны — к примеру, Финляндия и Швеция — стали тратить больше, но за минувшие 30 лет так и не превзошли США по инновационной активности. Особенно примечательна здесь Швеция. В 1998 году экономисты Чарльз Эдквист и Морин МакКелви опубликовали статью «Высокие вложения в R&D без технологических продуктов: шведский парадокс?», в которой попытались понять, почему при высоких расходах на НИОКР шведские компании выпускают ничтожно мало высокотехнологичной продукции. По всем сегментам высокотехнологичной продукции шведы к 90-м годам производили на 40–50% меньше среднего показателя по странам ОЭСР — стабильно проигрывая конкуренцию США, Германии и Японии. Успехи демонстрировала только фармацевтика: в начале 70-х Швеция выпускала фармацевтической продукции всего на 50% от уровня развитых стран, к 90-м — 110%.
Резюмируем. Американцам и скандинавам на протяжении десятилетий удавалось поддерживать высокие (одни из наиболее высоких в мире) темпы экономического роста. При этом государства Северной Европы построили куда более эгалитарные общества, в то время как социальное неравенство и расслоение в США только возрастало и достигло впечатляющих значений даже по сравнению с развивающимися странами. С другой стороны, все минувшие десятилетия именно Америка была на передовой научно-технического прогресса, скандинавы же особой инновационностью не отличались. Между тем, согласно базовой экономической модели, экономический рост — это научно-технический прогресс плюс накопление капитала и труда. Причем именно НТП является главным фактором экономического роста в долгосрочной перспективе. Значит, для того, чтобы национальный доход в Северной Европе прирастал так же резво (а речь, напомним, идет не об одном десятилетии), как в США, скандинавы должны обладать избытком либо капитала, либо трудовых ресурсов. Ничего подобного у товарищей за пятидесятым градусом северной широты нет. Таким образом, мы имеем противоречие, которое и пытаются разрешить Аджемоглу, Робинсон и Вердье.
Как и положено экономистам с их восторженной любовью к математике, авторы решают стоящую перед ними задачу с помощью экономического моделирования. В итоге почти тридцать страниц доклада после упомянутой выше базовой формулы недоступны обычному читателю. Не будем анализировать математические выкладки Аджемоглу и его соавторов — тем более что их теорию вполне можно объяснить человеческим языком.
Вариации капитализма
Авторы доклада были далеко не первыми исследователями, обратившими внимание, что модели экономического развития могут разниться от одной капиталистической страны к другой. Так, в 2001 году экономисты Питер Хол и Дэвид Соскис опубликовали книгу «Введение в разнообразие капитализма» (Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparative Advantage). Использованный в заглавии термин стал крайне популярен и сегодня в обязательном порядке изучается на любом экономическом факультете. По Холу и Соскису все капиталистические модели можно разделить на два вида: координируемые и либеральные. И та и другая позволяет достичь высокого экономического роста и национального дохода, но (в полном соответствии с названием) в координируемых экономках больший упор делается на административное перераспределение ресурсов и развитые институты, а в либеральных первую скрипку играет пресловутая «невидимая рука рынка». Причем речь идет не о банальной роли государства в экономике, а о большом количестве небольших различий, обусловленных зачатую особенностями исторического развития или менталитета той или иной нации.
Яркий пример координируемой модели — рейнский капитализм, сформировавшийся в послевоенной Германии (по западную сторону Стены). Если в англо-саксонских экономиках главный человек в компании — акционер, то рейнский капитализм (его еще называют «моделью заинтересованных сторон», stakeholder model) предполагает, что собственность на предприятии принадлежит целому ряду сторон, от менеджеров до наемных работников, и все они в той или иной степени участвуют в процессе принятия решений. В свою очередь, акции таких компаний принадлежат меньшему числу акционеров, в то время как в США или Великобритании до 80% акций может быть распылено между мелкими держателями. В результате публичные немецкие компании стоят меньше своих аналогов в США.
Аналогичных примеров можно найти великое множество. Но самое важное для нас различие заключается в том, что либеральная или англосаксонская модель ориентирована на рисковые и радикальные нововведения. А такие координируемые экономики, как Германия или Япония, наоборот, склоняются больше не к экспериментам, а к планомерному решению конкретных задач, здесь важны не прорывы, а «улучшающие» инновации. Чтобы понять, в чем разница, обратимся к книге «Введение в сравнительный анализ моделей современного капитализма», написанной в 2008 году профессором ВШЭ Андреем Шевчуком. Господин Шевчук пишет:
Радикальные инновации важны в быстроразвивающихся высокотехнологичных отраслях (биотехнологии, полупроводники, компьютерный софт, телекоммуникации, корпоративные финансы, реклама, развлечения и др.), улучшающие — в производстве техники, оборудования и товаров длительного пользования.
Вывод первый: если страна активно внедряет инновации, это не всегда означает, что она стоит на передовой научно-технического прогресса и двигает его вперед.
Преимущество отсталости
В 1970 году увидела свет книга американского экономиста Александра Гершенкрона (он родился в Одессе в 1904 году, в шестнадцать вместе с семьей эмигрировал в Австрию, в 1940-м переехал в Америку) под названием «Экономическая отсталость в исторической перспективе». Благодаря этой работе в экономической теории прочно укрепилось такое понятие, как «преимущество отсталости».
Гершенкрон утверждал, что отсталым странам гораздо проще совершать экономические рывки, нежели развитым государствам. Причина крайне банальна. Вспомним еще раз базовую формулу: экономическое развитие это научно-технический прогресс плюс накопление капитала и труда. Под НТП мы понимаем не только конкретные инновационные продукты, но и технологии — в том числе те, благодаря которым можно нарастить производительность труда в рамках традиционных промышленных процессов. Затраты на освоение этих технологий значительно ниже, чем на их изобретение. Многие из таких технологий можно даже назвать условно бесплатными. Соответственно, отсталой стране не обязательно набивать все те шишки, без которых не обошлось ни одно развитое государство на пути к благополучию: достаточно перенять чужой опыт и встать на путь так называемого догоняющего развития. В этом и заключается преимущество отсталости. Яркий пример — сталинская индустриализация, которая базировалась на мобилизации трудовых ресурсов вкупе с привлечением иностранных инвестиций и трансфером зарубежных технологий.
Обратная сторона преимущества отсталости — теория зависимости, популярная в социологии. Она утверждает несколько другое: да, беднейшие страны могут богатеть за счет достижений богатейших. Но как только этот процесс начинается, богатейшие становятся еще богаче, высасывая ресурсы из беднейших. Такова цена открытой экономики.
Вывод второй: не обязательно изобретать что-то самому — всегда можно подождать, пока это сделают другие.
Моральный риск
В теории контрактов существует понятие moral hazard, сформулированное финским экономистом Бенгтом Холмстрёмом в конце 70-х. На русский язык его принято переводить как «моральный риск», но есть и другие варианты: «оппортунистическое поведение» или «постконтрактный оппортунизм».
До появления этого понятия более-менее очевидным считалось, что результат деятельности любого работника находится в прямой зависимости от стимулов, предоставляемых работодателем. Соответственно, залогом эффективного производства считалась максимизация стимулов: чем больше риса ест условный китаец, тем лучше у него получается собирать айфоны. Холмстрём и ряд его коллег развенчали эти наивные суждения. Дело в том, что в природе очень редко встречаются совершенные контракты, где досконально прописан результат, который желает получить работодатель (принципал, если использовать терминологию теории контрактов). Соответственно, после заключения контракта действия исполнителя (агента) не всегда будут соответствовать интересам заказчика. Приведем один банальный пример из учебника по институциональной экономике Ярослава Кузьминова и Марии Юдкевич:
Например, с Петровым заключен контракт о покраске дома в красный цвет. Он контракт выполнил, но покрасил его плохо, так как не положил слой грунтовки. Когда же его начинают в этом упрекать, он возражает: «А где в контракте написано, что я его должен грунтовать?»
…исполнитель понимает, что заказчику нужно покрасить дом так, чтобы с него не сходила краска, чтобы он выглядел красиво. Однако в контракте у него лишь записано, что он должен покрасить дом в красный цвет. И если у него нет стимулов вести себя честно (если ему не дорого его доброе имя, если он находится в этом городе временно и не собирается предлагать здесь свои услуги еще кому-либо в будущем), то возникает классическая ситуация моральной угрозы. Тогда исполнитель будет четко выполнять то, что записано в контракте, и покрасит дом один раз в красный цвет.
Таким образом, не важно, что именно принципал хотел получить от агента, формулируя стимулы для него — главное, на исполнении каких именно задач последний сосредоточит свои усилия. Эта же логика справедлива не только для наемных работников, ее можно легко экстраполировать на уровень конкретных предпринимателей и даже государств.
Вывод третий: если одно и то же вознаграждение можно получить, прикладывая как максимальные, так и минимальные усилия, человек в большинстве случаев предпочтет второй вариант.
Милый или беспощадный?
А теперь посмотрим, как Аджемоглу, Робинсон и Вердье скрещивают три этих понятия — «вариации капитализма», «преимущество отсталости» и «моральный риск» — и что у них в итоге получается.
Из года в год самые передовые компании тратят огромные бюджеты на R&D и внедряют инновации, двигающие научно-технический фронтир вперед — все дальше и дальше. Плоды их усилий пожинает вся планета, но что движет конкретными компаниями — а точнее их создателями? Каждая новая технология дает им возможность увеличить производительность труда на своем предприятии или даже произвести инновационную продукцию, создать с нуля новый рынок, закрепиться на нем, получить сверхприбыль и превратиться в нового Сергея Брина или Илона Маска. На противоположной чаше весов — риск ошибиться и все потерять. Это азбучная истина. Из сотни венчурных проектов «взлетает» несколько штук, остальные приносят инвесторам многомиллионные убытки. Не зря в Кремниевой долине слово «провал» носит какой-то религиозный оттенок: чего стоит ежегодная конференция стартаперов FailCon. Эти люди живут в привычной системе координат риск/доход, причем оба показателя доведены до максимально возможных значений.
Но представим, что вам повезло родиться и жить не на просторах Пало-Альто, а на берегах Северного моря. Высокие налоги сводят к минимуму ваши шансы попасть в международный рейтинг Forbes. Но даже если движимые предпринимательским зудом вы затеете маленький стартап и прогорите, высокие стандарты социального обеспечения все равно обеспечат вам приемлемый уровень жизни. Вы живете в тех же самых координатах риск/доход, но обитаете в той части графика, где оси абсцисс и ординат только начинают свое движение к бесконечности. Так что вам лучше не хватать звезд с неба, а отойти в сторонку и подождать, пока инноваторы и визионеры переживут все свои провалы и взлеты. Затем, когда сформируется новый технологический уклад или возникнут новые рынки, вы сможете спокойно встроиться в международную цепочку распределения труда и создания добавленной стоимости. О сверхдоходах можно забыть, но гарантированная прибыль для вас и повышение уровня жизни для ваших соотечественников обеспечены.
Таким образом, главный вывод авторов «Несостоявшихся народов» заключается в следующем:
Для большей инновационной активности требуется большее неравенство и большая бедность (и слабое социальное обеспечение). В свою очередь, когда одно общество находится на границе технологического прогресса и активно способствует ее продвижению, стимулов поступать так же в других обществах не найдется. Одни, не щадя себя, продвигают технологический фронтир, другие увеличивают свои доходы за счет освоения достижений первых и делают выбор в пользу лучшего социального обеспечения и большего равенства.
Вслед за Холом и Соскисом авторы предлагают собственную классификацию капитализма (а если быть точными — собственную классификацию моделей вознаграждения предпринимательской деятельности): «беспощадный» (cutthroat) капитализм для меритократических государств, стоящих на передовой НТП, и «милый» (cuddly) капитализм для эгалитарных обществ, пожинающих плоды чужого успеха. Существование этих капиталистических моделей является залогом мировой технологической асимметрии и диффузии инноваций от развитых стран к отсталым. Пирамида Маслоу в послеобеденном варианте: если ты поел и сыт, тебе скорее захочется поспать, чем совершить научное открытие.
Теперь пора ответить и на главный вопрос доклада: могут ли американцы жить как скандинавы? И вместо того, чтобы распределять большую часть национального дохода среди 1% богатых и успешных предпринимателей, размазать эти деньги тонким слоем по всему обществу? К сожалению, нет. Как только американские власти решат построить общество всеобщего благосостояния, местные предприниматели лишатся стимулов к инновациям (по крайней мере, так утверждают авторы). Это незамедлительно скажется на остальном мире: научно-технический прогресс споткнется о всеобщую сытость, а темпы экономического роста сократятся по обе стороны Атлантики. При этом Соединенные Штаты — далеко не единственный пример беспощадного капитализма. Аждемоглу и его соавторы пишут, что и азиатские страны на ранних голодных этапах своего развития обладали довольно высокими стимулами к инновационной активности, но затем сделали свой выбор в пользу государств всеобщего благосостояния и увязли в сытой предпринимательской сонливости. Если развить эту мысль, то можно, пожалуй, добавить еще одну теорию в копилку объяснений четвертьвековой стагнации японской экономики. Автору этого текста не раз приходилось слышать, что в конце 90-х, когда страна была на пике благополучия, японское общество достигло потолка своего развития, и сегодня японцы уже не хотят ни потреблять сверх меры, ни тратить силы на рискованные инновационные затеи.
Идеи Аджемоглу и Робинсона также рифмуются с теорией так называемой ловушки среднего дохода. Она заключается в том, что на пути экономического развития любой страны есть довольно легкий этап: когда использование существующих мировых технологий сочетается с дешевым трудом. В какой-то момент жить по такой модели уже не представляется возможным: доходы населения выросли и перестали быть конкурентным преимуществом, люди из голодных работников превратились в потребителей, и для того, чтобы перейти на новый уровень, нужно отказаться от копирования чужих технологий и продуктов, начав создавать свои.
Критика
У теории, которую Аджемоглу, Робинсон и Вердье разработали в тишине университетских кабинетов, уткнувшись взором в бесконечные формулы и уравнения, очень быстро появилось множество противников. В первую очередь, разумеется, в скандинавских странах. Основное направление критики — «исследователи недооценивают научно-технические достижения Северной Европы». Спустя несколько месяцев после выхода доклада о беспощадном и милом капитализме финские исследователи Мика Малиранта, Нику Мааттанен и Веса Вихриала выпустили статью «Действительно ли скандинавы менее инновационны, чем американцы?». Триумвират защитников северной науки утверждает, что выводы оппонентов (мягко говоря) не подтверждаются цифрами. Вместо одного показателя, иллюстрирующего инновационную активность, финны берут сразу четыре: количество триадических патентов на 1 млн человек, число исследователей на 1000 занятых, расходы бизнеса на R&D и объем венчурного капитала к ВВП. По каждому из них США отстают от скандинавской тройки: Дании, Швеции и Финляндии. Кроме того, оказывается, что производительность труда и капитала в Финляндии с начала 90-х стабильно превышает американскую в среднем на 10%. Аргумент не самый весомый: в Дании и Швеции производительность все равно ниже, чем в США.
Вообще, Финляндия — прекрасная иллюстрация теории Аджемоглу и Робинсона. Страна знаменита компанией Nokia и разработками в интернет-сфере (Skype — приложение финского происхождения). Два вопроса: кому сейчас принадлежит мобильный бизнес Nokia? Правильный ответ — американской Microsoft. Вопрос второй — какая страна дала толчок развитию мобильной связи и Интернета? Правильный ответ — США.
В Швеции есть чудесная компания Ericsson, производитель оборудования для крупнейших телеком-операторов мира. При этом, как было упомянуто выше, сами шведы несколько десятилетий назад задавались вопросом: почему при высоких расходах на R&D шведские компании экспортируют так мало высокотехнологичных товаров.
В пользу Аджемоглу, Робинсона и Вердье можно сказать следующее: они пытаются дать более фундаментальную картину, используя в качестве временного промежутка последнюю четверть XX века. Их оппоненты апеллируют преимущественно к современной статистике. Вместе с тем авторы «Несостоявшихся народов» признают: их доклад носит в определенной мере спекулятивный характер, и это лишь первый шаг на пути исследования взаимосвязанного мира, в котором страны обмениваются друг с другом знаниями, технологиями и конкретными товарами. К сожалению, за четыре года, прошедших с публикации доклада, более серьезных шагов так и не было сделано. «Разве мы не можем взять пример со скандинавов?» — первое и последнее исследование, посвященное разнице между беспощадным и милым капитализмом.
Выводы для России
Истина заключается в том, что проверить кабинетную теорию Аджемоглу, Робинсона и Вердье невероятно сложно. Математические расчеты необходимо подкрепить большим объемом статистических данных: важно понять, как именно технологическое развитие в одной стране влияет на экономический рост во всем мире. Необходимо проследить зачастую запутанные траектории распространения технологических решений между различными экономиками. Наконец, даже если эти задачи будут решены, кто сможет очистить стройные наборы статистических данных от хаоса исторических случайностей?
Между тем никто не запрещает нам применить описанную выше теорию к России и попытаться понять, какая именно модель капитализма нам подходит и к чему стоит стремиться. Благодаря скромной подборке статистических данных мы можем сразу перейти к выводам:
1. Мы не должны и не сможем построить в России общество всеобщего благосостояния — по крайней мере, в ближайшие десять–пятнадцать лет. Во-первых, после благословенных 2000-х мы по-прежнему остаемся страной с одним из самых высоких уровней неравенства в мире. Российский коэффициент Джини по доходам в 2014 году составлял 0,401. Это близко к американским показателям — 0,408. Зато по богатству наш коэффициент составляет уже 0,897. В США — 0,846. Во-вторых, у нас есть хороший пример скандинавских стран, где общество всеобщего благосостояния начинает понемногу разваливаться. Например, в Финляндии в сентябре прошлого года власти попытались отменить ряд льгот и увеличить рабочую неделю, получив в ответ массовую забастовку. Уже давно ведется речь о своего рода монетизации льгот: 550 евро безусловного дохода в обмен на отказ от ряда социальных выплат. Причина в том, что в Финляндии, несмотря на инновационность экономики, рецессия — с 2012 года.
2. В чем причина высокого неравенства в России (по крайней мере, зарплатного)? Общество разделено на два неравных полюса: с одной стороны огромный бюджетный сектор, который государство тащит на своих плечах, с другой — небольшой слой высокооплачиваемых работников и руководителей крупнейших предприятий (как правило, государственных), работающих в финансовой системе или нефтегазовой отрасли. И если проблема оторванного от реальности вознаграждения, которое выписывают себе топ-менеджеры, есть и в США, то проблема бюджетников досталась нам в наследство от Советского Союза. Поскольку заигрывать с милым капитализмом мы не можем, то должны дрейфовать в сторону беспощадного. Логика подсказывает, что выход один: планомерно сокращать социальные выплаты и долю бюджетного сектора в России, переводить образование и здравоохранение на коммерческие рельсы — хотя бы частично. Да-да, бесплатная медицина и всеобщее образование — одно из главных достижений СССР, это мы слышали. Но и то и другое уже давно попахивает мертвечиной. Это безумно сложный и болезненный для населения процесс, который займет не меньше десятилетия. Но начинать можно уже сейчас — хотя бы с повышения пенсионного возраста.
3. Путь к беспощадному капитализму предполагает тотальную смену сформировавшейся в России системы стимулов. Возьмем за данность теорию Аджемоглу и Робинсона о том, что в США действует следующая логика: «Ты усердно работаешь, создаешь инновации, богатеешь, покидаешь обитель скорби и нужды, имя твое славно в веках». К сожалению, в России такая логика не работает. Во-первых, в нашей большой и печальной стране попросту трудно строить бизнес. Несовершенство финансовой системы и запредельную стоимость кредитования мы оставим в стороне, поскольку и так часто об этом пишем. Обратим внимание на главный парадокс: при высоких налогах на бизнес и труд (последние тоже в конечном итоге ложатся на бизнес), по уровню которых мы можем конкурировать со скандинавами, социальное обеспечение и неравенство у нас как в Америке. Куда идет весь этот огромный объем собранных налогов? Анализируя бюджет 2016 годамы пришли к простому выводу: львиная доля денег тратится на содержание раздутого и неэффективного чиновничьего аппарата. Подтвердим догадку цифрами: в 2014 году условный столичный чиновник получал в 1,4 раза больше, чем среднестатистический москвич: 109,1 тыс. рублей против 75,6 тысяч. В целом усредненная зарплата чиновника соответствовала зарплате руководителя среднего или крупного московского предприятия. Выглядит не очень справедливо. Отсюда первый вывод: необходимо сокращать расходы на чиновничий аппарат: и поголовье чиновников, получающих жалование, и размер их окладов. Пусть самые талантливые управленцы переходят из госаппарата в частный сектор. Родственная идея: сокращать долю госсектора в экономике. Если мы боимся приватизации, можно начать с законодательного ограничения зарплат сотрудников госкомпаний и прямого запрета на приобретение активов внутри страны. Пример «Роснефти», которая поглотила сначала ЮКОС, а затем ТНК-BP (причем последнюю — на иностранные займы) и заразила их вирусом неэффективности, не должен повториться (стоит добавить, что мы можем бояться приватизации сколько угодно, она всё равно необходима).
4. Высвободившиеся доходы бюджета необходимо направить туда, где их как раз и не хватает: в здравоохранение и образование. В базовой формуле НТП является залогом устойчивого экономического роста, а в реальности рост держится на двух вышеперечисленных сферах. Необразованным и больным людям не до технического прогресса. Здесь главное не переусердствовать: никакого общества всеобщего благосостояния. Расходы на образование и здравоохранение — на таком уровне, чтобы в обозримой перспективе догнать страны ОЭСР.
5. Что касается нынешней налоговой системы, то она не имеет права на существование. Налоги на бизнес необходимо снижать, налоги на труд переносить на плечи работника (можно начать с разделения ставки НДФЛ: часть платит работодатель, часть — работник). Одновременно необходимо решать проблему высоких состояний. Налог на сверхдоходы, прогрессивная шкала налогообложения — это можно называть как угодно, но что-то подобное обязательно должно появится в России. Чтобы избежать аналогий со скандинавскими странами, можно подойти к вопросу с фантазией: взять список Forbes, выделить сверхбогатую олигархию и просто крупных собственников, основательно пройтись по первым и оставить в покое вторых.
6. Отдельно стоит больной российский вопрос: коррупция и соблюдение прав собственности. Не будем повторять за институционалистами и предположим, что сделать государственный и правоохранительный аппарат максимально прозрачным можно с помощью современных технологий. Благо, такая возможность у нас имеется, и называется она блокчейн. Поэтому государству стоит сосредоточить свои усилия — в первую очередь финансовые — на создании независимых групп разработчиков, главной целью которых будет превращение отдельно взятого чиновника в функцию. Фантазировать о конкретной реализации пока бессмысленно, но начинать имеет смысл уже сейчас.
7. В теории после всех этих мер предприниматель почувствует себя свободным и начнет работать на благо научно-технического прогресса. Это, конечно, не так. Наивно ожидать, что Россия в ближайшее время станет мировым технологическим лидером. Причин несколько. Во-первых, наш внутренний рынок огромен и до смешного беден. Наш бизнес не предоставляет населению огромное число товаров и услуг, которые в развитых странах считаются нормой (типа автоматических сушилок для рук в общественных местах). Соответственно, основные усилия придется для начала направить на удовлетворение этих потребностей. С этой точки зрения мы находимся на столь ранних этапах догоняющего развития, что путь к уровню стран ОЭСР еще только начинается. Массовый предприниматель в 2016 году не будет (и не должен) грезить славой Илона Маска — он начнет строить дома, шить одежду, выпускать зубную пасту, производить трамваи и автобусы, запускать интернет-сервисы и устанавливать на остановках вендинговые аппараты. Во-вторых, с точки зрения промышленности (а не потребительского сектора) отставание России от развитых стран оценивается в четверть века — ровно столько мы теряли компетенции, наработанные в Советском Союзе, свято веря, что в условиях свободного рынка необязательно производить то, что можно купить. Итог: зависимость от импорта в станкостроении — 90%, в тяжелом машиностроении — 80–90%, в промышленной робототехнике — 95%, в вычислительной технике — 80%, в медицинском оборудовании — 90% и выше. В-третьих, Гершенкрон, а следом за ним Аджемоглу с коллегами, конечно, правы, когда утверждают, что технологии распространяются по всему миру — однако процесс этот далеко не так идеален, как хотелось бы. Процесс освоения технологий сложен и требует широкой кооперации носителя знания с тем, кто эти знания заимствует. При этом многие технологии навсегда останутся в собственности своих создателей: понятия «коммерческой тайны» и «ноу-хау» еще никто не отменял. С другой стороны, не все так плохо. Есть пример Китая, который, превратившись в 90-х в мировую сборочную фабрику, либо беззастенчиво копировал, либо воровал иностранные технологии. В то же время главное экономическое достижение прошлого года — поставки российского суперкомпьютера в Европу. Невероятно, но факт: Стив Возняк то ли в шутку, то ли всерьез говорит, что хотел бы иметь YotaPhone, а гонконгский инвестхолдинг Rex покупает 30% в производителе Yota Devices. В сфере интернет-технологий, которая уже давно состоялась как большой бизнес и активно монополизируется, у нас тоже неплохой потенциал: Россия одна из немногих стран, где Google и Facebook не являются безусловными лидерами рынка — более того, «Яндекс» активно работает в сфере Big Data с европейскими клиентами.
8. Внимательный читатель мог заметить, что начав с упреков в адрес неоинституционализма, мы в итоге заговорили на его языке и буквально слово в слово повторили речи условного Алексея Кудрина и плеяды современных популярных экономистов. Да, согласимся, в России перекошенная институциональная среда и совершенно дикая советско-путинская каша вместо системы предпринимательских стимулов. Но важно понимать, что на любые реформы в этой области потребуются гораздо больше времени, чем на освоение новых (или хорошо забытых старых) технологий, промышленное возрождение и насыщение потребительского рынка товарами и услугами отечественного производства.



