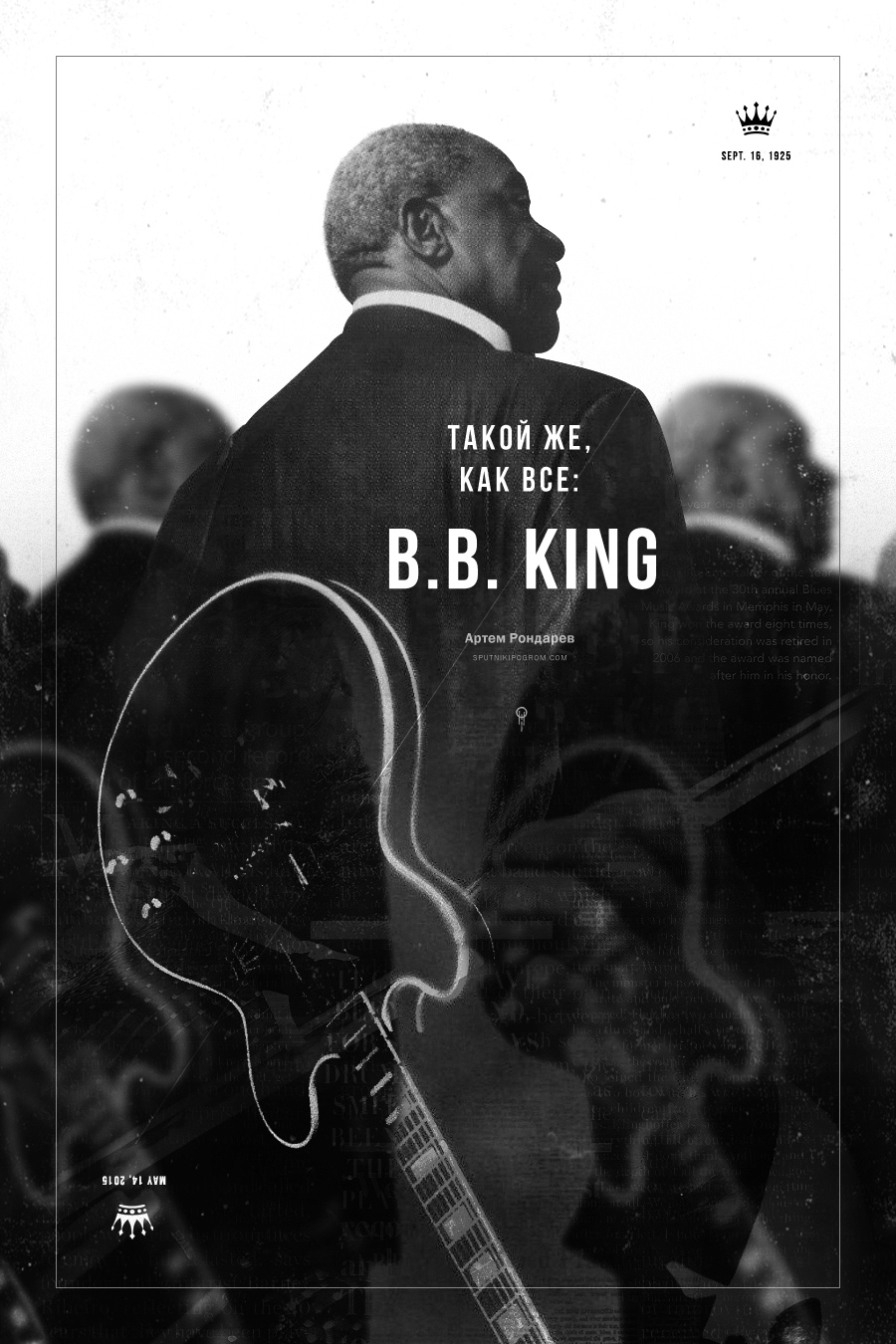История с чеченской свадьбой вызвала в СМИ и соцсетях совершенно беспрецедентный взрыв полемики, притом полемики крайне ожесточенной, на уровне ценностного конфликта. Я не буду заниматься сейчас разбором самой ситуации: все, что мы знаем о ней, очень сильно модифицировано источниками информации и производит недостоверное впечатление. Так что каждый выбирает сам, какой стороне ему верить. Те обрывочные сведения, что долетают до нас, минуя официальные фильтры, позволяют говорить, что там имело место как минимум многоженство (в сети лежат фотографии чеченского юноши «с двумя снохами», и их подлинность вроде бы пока никто не опроверг), но утверждать что-либо наверняка сложно. Более того, фактическая сторона всей этой истории, при всем сочувствии к ее возможным жертвам, непосредственно к нам имеет очень небольшое отношение, в отличие от тех реакций и тех последствий (включая и идущие уже дебаты о легализации или, наоборот, криминализации многоженства), которые мы наблюдаем здесь, у себя. Так вот, я попытаюсь разобраться с реакциями: притом меня не будет интересовать реакция официальных лиц вроде Милонова или Астахова, так как эти люди явно отрабатывают какую-то локальную стратегию, смысл которой со стороны постичь сложно; так или иначе, это фигуры прямо ангажированные. Поразительно, однако, что в унисон с ними выступило огромное число людей, ничего, кроме морального удовлетворения, от комментариев своих получать не собирающихся. Эти люди, не надеясь ничего получить от факта своей поддержки той или иной стороны, выбрали сторону, отстаивающую право на ранние браки, браки по договору и — теперь уже — многоженство: то есть вещи, в секулярной городской европейской культуре, в которой мы все вроде бы еще недавно жили, считающиеся либо архаичными, либо прямо запретными.
*
Причин у этой поддержки сразу несколько, попробуем в них разобраться.
Первая — и самая очевидная — причина раскрывается в имплицитной мизогинии всех высказываний, так или иначе оправдывающих сложившуюся ситуацию. По сути, все стратегии оправдания довольно легко свести к тому соображению, что бабе нужен мужик, баба без мужика никто, а какого он возраста и какая она у него по счету — уже неважно. Самый простой аргумент здесь звучит так: всегда так было, всегда женились на молоденьких, а что такого? Далее изощренность оправданий растет, пока, наконец, не доходит до полноценного гимна «сложившимся обстоятельствам» в изложении поэта Игоря Караулова, которого я процитирую:
«А кстати, какую альтернативу вы могли бы предложить девушке Луизе, если бы вам удалось вырвать ее из деспотичной семьи?
Стать бесплодной креаклицей, в одиночку катающейся по Европе, постящей в инстаграмчик фото морских закатов и морских гадов и по ночам воющей в подушку, потому что уже за тридцать, а семьи нет и не предвидится?
Стать секретаршей в офисе, чтобы начальник ее на столе пялил, а потом передал сменщику?
Или вот вам Украина очень нравится. Куда пойти украинской девушке без особых талантов? В турецкий бордель, на Ленинградку, в движение „Фемен“?
В общем, если вы собираетесь чеченцев поучить жизни и указать им Правильный Путь, то они посмеются над вашей „свободой“, ибо с их точки зрения это свобода дешевой шлюхи».
По форме этого обращения видно, что оно адресовано так называемым «либералам»; мы об этом поговорим чуть ниже, однако тут стоит понять, что, поскольку либералы у нас назначены отвечать за секулярный, светский путь развития в отрыве от традиции (это не я так считаю, а те, кто их туда назначил), — очевидно, что инвектива Караулова описывает все те жизненные стратегии женщины, которые возможны в лишенном традиции светском, так называемом свободном обществе. Здесь стоит обратить внимание, что Караулов не находит применения женщине вне парадигмы «семьи» и «пялящего ее шефа» вообще. Ни один из вариантов, предполагающий, что женщина тоже субъект, что она способна рассматриваться в отрыве от семьи и продолжения рода, здесь не приведен: если девушку не берет замуж джигит, то шансов у нее немного, и все эти шансы описываются где маячащим, а где и прямо произнесенным словом «бесплодная». То есть высказывание Караулова суммируется следующим образом: да, в нашем традиционном обществе женщины тоже страдают, но у нас они хотя бы рожают!
Мало того, что вся эта оппозиция ложь, это еще и ложь принципиально мужская: Караулов выстраивает проекции судьбы женщины исходя из своего представления о том, зачем нужна женщина мужчине. Я уже как-то говорил, что в основе всякой мизогинии лежит борьба за власть: мужчины закрывают женщинам путь к рычагам влияния, ограничивая сферу их жизни теми областями, где власть возможна разве что бытовая; разумеется, как и в случае всякой борьбы за власть, такое положение дел теми, кто, как сейчас принято говорить, управляет дискурсом, выдается за положение дел объективное. «А куда еще бабе пойти, если не в семью?» То есть: не в том вопрос, что конкретной Луизе действительно, видимо, пойти некуда: вопрос в том, что мужчина интерпретирует ее ситуацию как универсальную, так как примеры им приведены изо всех сфер городской жизни, к конкретной Луизе не имеющих никакого отношения. «Креаклицей» ей, при ее воспитании, не удалось бы стать при всем желании; но Караулова беспокоит именно это. Не то беда, что женщину выдают второй женой за мужчину в два с лишним раза ее старше, то беда, что женщины, если их не выдать замуж, останутся бесплодными. Так мужское требование к женщине делается требованием универсальным; после такого приема вообще всякий разговор о возможности социальной женской эмансипации делается бессмысленным.
Наше общество (как и любое мобилизованное традиционалистское общество) насквозь мизогинично: если на его глазах случается какой-то мезальянс, то в адрес мужского участника мезальянса звучит цитата из анекдота (который тоже о мезальянсе) «завидовать будем»; женская сторона остается без внимания вообще — еще чего, о бабе думать. Если бы, допустим, ситуация была взята зеркальная (попробуем представить такое): пожилая горская женщина решила себе завести юного мужчинку и потребовала бы от главы администрации ей это устроить. Как вы думаете, что бы мы слушали от наших консервативных авторов? Разумеется, анекдоты о подкаблучнике, истории о женском принуждении, крики о том, что опять эти бабы распоясались и вот он, звериный оскал феминизма; то есть виновата была бы женщина, и именно в том, что она «много на себя взяла». Любой мужчина увидел бы в подобной истории угрозу своей власти и отреагировал бы немедленно.

То есть, во всем этом скандале поразительно, что ни мужчины, ни женщины, участвующие в нем на стороне, так сказать, жениха и Кадырова, нигде не рассуждают с точки зрения того, что невеста — тоже субъект: ее дело согласиться и идти рожать или не согласиться и попытаться вырваться из ситуации. …Но только для того, чтобы потом идти рожать от другого, больше никакого выбора у нее нет; третий путь — это «бесплодная креаклица», то есть некое окончательно проклятое, непотребное существо. А уж мы тут без нее пока разберемся с легальными основаниями.
*
Вторая наша проблема состоит в шизофрении.
Люди, которые в данном случае призывают относиться с уважением к мусульманским обычаям полигамии и ранних браков, — это, как правило, те же самые люди, которые в иных случаях любят давать ссылки на новости о строительстве в Европе очередной мечети, на европейские конфликты с мусульманскими общинами и на рассуждения об исламизации Европы; более того, это те же люди, которые радостно улюлюкали во время истории с расстрелом редакции Шарли Эбдо, сообщая в комментариях, что не нужно было задевать религиозные чувства мусульман. Подобная оценочная шизофрения никого не заботит — и неудивительно. Славой Жижек, рассуждая о нищете европейской идеи толерантности, оперирует емким понятием «декофеинизированный Другой»: речь идет о том, что толерантные европейцы готовы мириться с обычаями культурных и национальных меньшинств (т. е. Другого) до тех пор, пока эти обычаи их никак не задевают. Чисто теоретически такой подход выглядит нормальным: не нарушаешь закон — отправляй обычаи, нарушаешь — иди в тюрьму; проблема, однако, в том, что так вопрос не ставится. Чужие обычаи никогда не помещаются в рамки универсального светского закона; они существуют как бы в отдельной от закона среде: приятные европейскому человеку обычаи интерпретируются как доказательство того, что в обычаях per se ничего плохого-то нет. Неприятные расстраивают европейского человека как непонятно откуда взявшийся эксцесс: только вчера вроде было еще хорошо, играл саз, пелись красивые песни с вибрато и фиоритурами, — а сегодня, гляди-ка, те же люди выдали фетву на убийство еще одного писателя; и чего это они вдруг, так хорошо сидели ведь все вместе?
Люди искренне не хотят понимать, что обычаи не делятся естественным образом на «приятные» и «неприятные» европейскому вкусу; все обычаи в своей совокупности — это часть чьего-то культурного кода, который, при выделении из целого списка обычаев «неприятных» и попытку их запретить изнутри, теряет свою гомогенность. Потворствуя «приятным обычаям», нельзя заставить архаические культуры встроиться в модерн: в модерн можно встроиться, только объяснив всем сторонникам архаики, что закон выше обычая.

Нетрудно заметить, что требования «уважать обычаи и приводить законодательную базу в соответствие с ними», — это движение в обратном направлении: это намеренное погружение в архаику (причем архаику чужую) с нелепой надеждой, что архаика сама каким-то образом отфильтрует «приятные» обычаи от «неприятных» и вторые почему-то объявит неактуальными. Именно в этой ловушке постоянно мечется европейская толерантность, пытаясь декофеинизировать Другого, пытаясь сделать его «приятным» европейскому человеку Другим, не посягая при этом на то, что составляет основу быта и ментальности Другого, — а именно на саму идею, что мандат обычая выше мандата закона.
Парадоксальным образом у нас роль европейской толерантной публики исполняют как раз люди, для которых слово «толерантность» — прямое ругательство: толерантностью в нужный для нее момент балуется наша консервативная общественность, которая требует уважения к чужому обычаю, надеясь, что неприятные стороны архаики ее по какой-то причине не затронут, если она окажет архаике сугубый почет и уважение.

Есть люди, которые ведут себя именно так, пытаясь достичь каких-то своих собственных стратегических целей: так, православное священство во главе с Чаплиным и Кураевым, которое берется защищать мусульманские обычаи (прежде речь шла о ношении хиджабов в школе, теперь Чаплин уже говорит о традиционной мусульманской полигамной семье), поступают таким образом, чтобы отсрочить или даже убрать угрозу реванша светского образа мысли; эти люди рассуждают, что с теми, кто верует хоть в какую-то трансценденцию, им будет договориться проще, нежели с теми, кто никакой трансценденции не признает (Кураев в свое время вполне ясно обозначил этот приоритет, говоря, что сегодня запрещается ношение хиджабов в школах, а завтра могут попросить и православный нательный крестик напоказ не выставлять). Подобная точка зрения исходит из представления о том, что чужие обычаи — меньшее зло, нежели общий для всех закон: точка зрения, кажущаяся очень логичной, пока чужие обычаи напрямую не сталкиваются с твоими; а это в архаических обществах, к сожалению, неизбежно происходит рано или поздно; и сегодняшнее нежелание жить по общему для всех закону завтра может обернуться тем, что закон вообще перестанет работать, — именно тогда, когда к его защите особенно отчаянно захочется прибегнуть. Легитимность закона покоится на его универсальной практике применения; пытаясь эту практику там или тут подогнать под обычай, человек уничтожает легитимность закона. Если сегодня нужно уважать традицию брать в жены двоих, то почему завтра не нужно будет уважать традицию пользоваться рабами? Раз уж мы один раз нагнули закон, то почему бы его не нагнуть опять? Люди же просят.
Наш консервативный интеллигентный человек думает, что его это процесс не затронет: весьма слабое для мыслящего человека основание.
*
Наконец, причина третья, — это очевидный (и, очевидно, срежиссированный) идеологический раскол в обществе, причем раскол по линии фиктивной, в подлинном идеологическом поле не существующей. Когда комментаторы, выступающие на стороне жениха и Кадырова, способны были отрефлексировать свое решение, то рефлексия эта звучала так: «либерастов корежит», «прогрессисты надоели», «неполживцы ноют».
Вдумайтесь: люди из больших европейских городов, на оплачиваемых работах, явно не бедствующие, готовы солидаризоваться с чужим обычаем и оправдать прямое нарушение закона, легализацию архаических практик и возможное насилие над личностью из тех только соображений, что их соседей по дому или офису от этого «корежит».

Всему нашему обществу — и господам либералам, и господам консерваторам, — стоило бы подумать о том, в какую бездну мы скатились. Первым стоит подумать над тем, какое реноме они себе создали, а вторым поразмышлять вот над чем: люди, которые избирают себе союзников не в силу каких-то убеждений, а только лишь по принципу «враг моего врага — мой друг», рискуют в один прекрасный день обнаружить, что тот, кого они сочли себе другом, назвался им совершенно из иных, нежели их собственные, побуждений. Примеров того, как прагматичные союзники нарушали свои договоры с людьми, вступившими с ними в союз с целью «подружить против кого-то», в истории масса.
И когда кто-то из эстетических соображений готов приветствовать разрушение общего легального пространства, то ему стоило бы себе представить, какое будущее он себе этим готовит. Вот тут вышел очередной «Безумный Макс», гляньте его: вот так выглядит торжество локальных обычаев над универсальным законом, и вы работаете на то, чтобы эту картинку приблизить.
Очень дальновидно.