Текст: Рени Эддо-Лодж, соцактивист, писатель, блогер, для The Guardian. Перевод: Александр Заворотний, «Спутник и Погром»
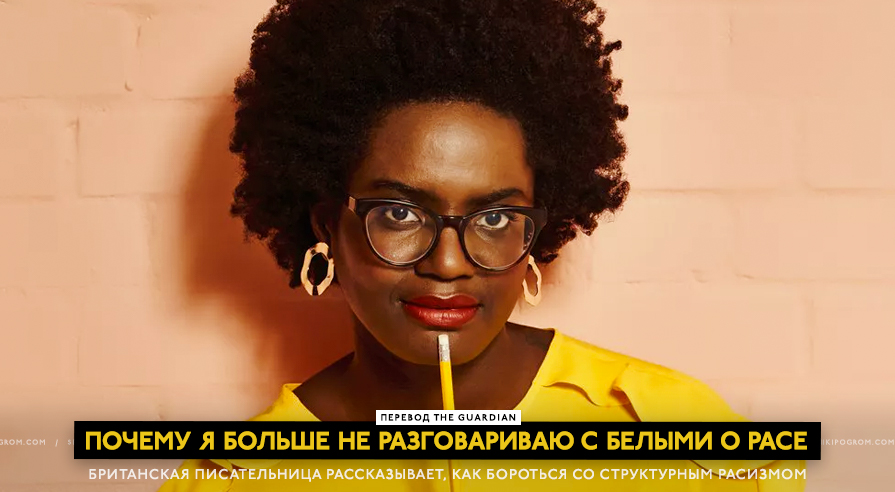
Долгие годы облик расизма определяло насилие со стороны ультраправых, но есть и куда более коварная форма этого предрассудка, укоренившаяся там, где этого можно было ожидать менее всего — в самом сердце респектабельного общества.
22 февраля 2014 года я написала пост в своём блоге. Пост назывался «Почему я больше не разговариваю с белыми о расе». Там я писала:
Я не веду с белыми разговоров о расе. Не со всеми белыми, но с абсолютным большинством, которое отказывается признавать существование структурного расизма и его симптомы. Я больше не хочу погружаться в бездну эмоциональной отстранённости, к которой прибегают белые, когда цветные начинают рассказывать о своём жизненном опыте. Белые закрывают глаза и не хотят слушать. Как будто в уши им заливают патоку, блокируя слуховые каналы. Как будто они не слышат вообще ничего. Эта эмоциональная отстранённость проистекает из привычки жить, считая, что их цвет кожи — «норма», от которой все прочие отклоняются.
В лучшем случае белые учатся не упоминать об «отличиях» цветных в ситуациях, когда нас это задевает. Они искренно верят, что их жизненный опыт, проистекающий из цвета их кожи, может и должен быть всеобщим. Я устала бороться с теми растерянностью и попытками защищаться, с которыми они воспринимают факт, что далеко не все люди в мире имеют схожий опыт.
Они никогда не задумываются, что значит быть белым с точки зрения иерархии, и каждый раз, когда им на это намекают, они воспринимают это как оскорбление. Их глаза слипаются от скуки или округляются от негодования. Когда они пытаются защищаться, у них дёргаются уголки губ. Они открывают рот, чтобы перебить, чтобы переговорить, лишь бы не слушать; им нужно непременно убедить вас, что вы всё неправильно понимаете.
Понимание структурного расизма требует от иных рас ставить чувства белых превыше всего. Даже если вас слышат, то всё равно не слушают. Что-то происходит со словами, которые выходят из наших ртов и достигают их ушей. Слова наталкиваются на барьер отрицания и застревают в нём.
Такова эмоциональная отчуждённость. Удивляться здесь нечему: ведь они никогда не понимали, что на самом деле значит признавать цветных людей за ровню, а их мысли и чувства — за столь же важные, как и собственные. Когда я смотрела документальный фильм «Цвет страха» (The Color of Fear) Ли Ман Ва, то видела, как цветные люди плачут, пытаясь убедить скептично настроенного белого, что его слова загоняют их в рамки белых расистских стандартов. А он непонимающе таращился в ответ, совершенно сбитый с толку слезами. В лучшем случае отвечал банальностями, в худшем — насмешками.
Я и раньше писала об этом белом заговоре отрицания как характерной политике расы, которая сделала его своим стандартом по умолчанию. Так что больше я не могу разговаривать с белыми о вопросах расы — из-за яростного отрицания, неуклюжих увёрток и умственной акробатики, которую они демонстрируют, когда пытаешься обратить их внимание на эту проблему. Кому захочется, чтобы его тыкали в существующую систему, которая приносит белым выгоду за счёт всех прочих?
Я больше не хочу вести такие разговоры, поскольку точки зрения у нас принципиально разные. Не хочу говорить о нюансах проблемы, когда они даже не признают существование самой этой проблемы. Ещё хуже оказываются те белые, которые допускают возможность вышеупомянутого расизма, но считают, что мы вступаем в этот разговор как равные. А это неверно.
И я уж не говорю о том, что вести такие беседы с агрессивными белыми — откровенно опасно. Волосы у них встают дыбом, они всё откровеннее выказывают пренебрежение, а мне приходится соблюдать невероятную осторожность, поскольку, если я проявлю расстройство, гнев или обиду из-за их нежелания понимать, то они ударятся в свои расистские клише об озлобленных чёрных, угрожающих белым и их безопасности.
Весьма вероятно, меня сочтут задирой или агрессором. Не менее вероятно, что друзья белых придут им на помощь, исказят факты и подадут ложь как правду. Попытки вести диалог и осмысливать их расизм никогда не окупятся.
В каждом рассказе о славных белых людях, которые чувствуют, что их задвигают в тень разговорами о расе, есть зияющее непонимание и отсутствие эмпатии к тем из нас, кто несёт печать инаковости всю свою жизнь и вынужден мириться с последствиями. Цветные люди обречены вечно прибегать к самоцензуре. Можно во всеуслышание рассказать свою правду и получить ответный удар, или прикусить язык и тихо жить дальше. Жить странной жизнью, в которой для того, чтобы заговорить или почувствовать себя оскорблённым, требуется разрешение. Полагаю, корни этого явления произрастают из непробиваемой самоуверенности белых.
Я больше не хочу эмоционального истощения от попыток донести эту точку зрения, при этом пытаясь воздержаться от обвинений конкретных белых в поддержке структурного расизма, иначе они обрушатся на меня со всей яростью.
Вот поэтому я больше и не говорю с белыми о расе. Я не облечена такой властью, чтобы изменить правила, по которым живёт весь мир, но я могу обозначить определённые границы. Я могу ограничить их самоуверенность, и начну с того, что прекращу подобные разговоры. Равновесие и так слишком сместилось в сторону белых. Как правило, они стараются не слушать или понимать, а проявлять свою власть, доказывать мою неправоту, доводить меня до эмоционального истощения и восстанавливать статус-кво. Я не говорю с белыми о расе, если только у меня совершенно нет иного выхода. Если есть какой-то медиаповод или конференция, где у меня есть шанс быть услышанной и не чувствовать себя в одиночестве, то я готова принимать участие. Но я больше не хочу иметь дела с людьми, которые не хотят слышать, которые всё высмеивают и, откровенно говоря, вообще не заслуживают диалога.
Я опубликовала этот пост, и он зажил собственной жизнью. Спустя годы мне всё ещё попадаются люди из разных стран, которые говорят, что читали этот пост. В 2014 году, когда он разошёлся по всему интернету, я собралась с духом в ожидании обычного наплыва расистских комментариев. Но реакция была настолько отчётливо непривычной, что я удивилась.

Рени Эддо-Лодж
Мне было три года, когда убили чёрного студента Стивена Лоуренса, и двадцать два, когда двое из его убийц были осуждены и попали в тюрьму. Всё моё детство мать убитого, Дорин Лоуренс, боролась за справедливость. Телевизионные репортажи об этом случае — единственные, которые я запомнила в детском возрасте. Чудовищное преступление на расистской почве, умирающий чёрный парень, борющаяся за справедливость мать. Его смерть преследовала меня. Я начала терять веру в существующую систему.
Раньше у меня было определённое чувство — чувство защищённости — где-то в углу разума; что, если однажды я вернусь домой и увижу, что всё перевёрнуто вверх дном, а ценные вещи украдены, то я могу позвонить в полицию, и мне помогут. Но если этот случай чему-то меня научил, то только тому, что в определённых обстоятельствах на полицию не стоит полагаться.
Вечером 22 апреля 1993 года 18-летний Стивен Лоуренс вышел из дома своего дяди в Пламстеде, что на юго-востоке Лондона. С ним был его друг Дуэйн Брукс. Когда друзья стояли на остановке, Лоуренс хотел перейти дорогу, чтобы увидеть, не идёт ли автобус. Но перейти её не сумел. К нему приблизилась группа молодых белых примерно его возраста, которые его окружили. Затем они набросились на него и начали наносить удары ножом. Брукс бросился бежать, Лоуренс тоже побежал, но через 100 метров упал. И истёк кровью прямо посреди дороги.
Спустя день после смерти Лоуренса в телефонной будке возле автобусной остановки появилось письмо с именами людей, которые стали главными подозреваемыми в ходе расследования. В последующие месяцы была установлена слежка и проведены аресты лиц, упомянутых в этом письме. Двоим предъявили обвинения. Однако к концу июля 1993 года эти обвинения были сняты. Полиция решила, что показания Брукса, единственного свидетеля преступления, ненадёжны.

Лоуренс и его предполагаемые убийцы
Четырьмя годами позже следствие вынесло вердикт, что убийство было «беспричинным расистским нападением». После официальной жалобы на действия полиции от лица родителей Лоуренса полиция Кента в марте 1997 года получила задание расследовать поведение своих лондонских коллег. Девятью месяцами позднее был опубликован отчёт, в котором указывалось на «серьёзные недостатки и упущенные возможности» в действиях лондонской полиции в ходе расследования гибели Стивена Лоуренса.
В июле 1997 года тогдашний министр внутренних дел Джек Стро заявил, что в отношении смерти Лоуренса будет проведено судебное расследование, а действия лондонской полиции подвергнутся дополнительному разбору. Ответственность была возложена на судью первой инстанции сэра Уильяма Макферсона.
Отчёт Макферсона был опубликован в феврале 1999 года. В нём отмечалось, что расследование убийства Стивена Лоуренса «было омрачено профессиональной некомпетентностью, институционным расизмом и отсутствием инициативы среди высших чинов». Институционный расизм, как пояснялось в отчёте, является «общей неспособностью организации оказывать надлежащие профессиональные услуги людям по причине цвета их кожи, культурных особенностей или этнического происхождения. Он проявляется в действиях, отношении и поведении, которые приравниваются к дискриминации ввиду непреднамеренных предрассудков, невежества, недомыслия и расистских стереотипов, ставящих этнические меньшинства в невыгодное положение».
Важно, что в отчёте институциональный расизм описывался как разновидность коллективного поведения, культура поведения на рабочем месте, поддержанная общественным статус-кво и консенсусом, на который власти зачастую смотрят сквозь пальцы. Среди множества прочих рекомендаций в отчёте предлагается повышение доли чёрных полицейских и проведение обучения по вопросу отношения к расизму и культурного разнообразия.
Заместитель начальника полиции Кента Боб Эйлинг в эфире программы BBC Newsnight назвал действия лондонской полиции при расследовании смерти Лоуренса «крайне небезупречными». Эйлинг также сообщил об обнаружении нового важного свидетеля, чьи показания не были приняты во внимание. Полиция зафиксировала три звонка от женщины, которая, вероятно, была близко знакома с одним из подозреваемых, но её заявления должным образом никто не проверял.

Повторное рассмотрение известных улик привело к новому процессу над подозреваемыми в убийстве Стивена Лоуренса. 4 января 2012 года, 19 лет спустя после смерти самого Лоуренса, двое из пяти подозреваемых были наконец признаны виновными и приговорены к наказанию за своё преступление. Когда Гари Добсон и Дэвид Норрис убили Лоуренса, они были подростками. Ко времени тюремного заключения они превратились во взрослых мужчин лет 35–40. Жизнь Стивена Лоуренса оборвалась в 18 лет, а их жизни текли своим чередом, чему частично помогла полиция.
Оба преступника получили пожизненный приговор. Оглашая приговор, судья Колман Трейси назвал преступление «убийством, пятнавшим совесть нации». Для Британии это был исторический день, но очень запоздалый. Многие не понимали, почему полиция совершила столь чудовищные ошибки и почему правосудия пришлось ждать так долго.
Длительное время планку расизма задавали действия белых националистов. Три крупнейшие британские партии всегда резко осуждали экстремизм. Но реакционное чувство гордости за белую расу, столь часто противопоставляемое прогрессу, никогда не исчезало. Оно проявляется и в политических организациях вроде «Британского национального фронта», «Британской национальной партии» и «Лиги английской обороны». Их политическая деятельность, будь это расхаживание по оживлённым городским улицам в капюшонах и балаклавах или симулирование респектабельности на политических конференциях, прямо влияет на жизнь небелых.
Если бы все случаи расизма было так же легко заметить и заклеймить, как белый экстремизм, то задача антирасистов неизмеримо бы облегчилась. Люди считают, что если речь идёт не о насильственных действиях или никто не выкрикивает «черномазый», то никакого расизма и нет. Если темнокожий человек не подвергся насилию или оскорблению посреди улицы, то это не расизм. На самом же деле расизм процветает там, где ответственные лица не отождествляют себя с белым экстремизмом. Проблема намного глубже.
Мы говорим себе, что хороший человек расистом быть не может. Мы думаем, что истинный расизм может свить гнездо лишь в злых сердцах. Мы считаем, что расизм касается моральных ценностей, а на самом деле это стратегия выживания и сохранения власти. Когда значительная часть избирателей голосует за политиков и инициативы, которые открыто прибегают к расизму как инструменту агитации, мы убеждаем себя, что такие массы людей никак не могут быть расистами, ведь иначе пришлось бы считать их бессердечными чудовищами. Но вопрос не в злых и добрых людях.
Скрытую природу структурного расизма очень сложно изучить. Он ускользает из рук. Его невозможно обнаружить с той же лёгкостью, как флаги святого Георгия на маршах «Лиги английской обороны». Он выглядит куда более респектабельно.

Я использую слово «структурный» вместо «институциональный», поскольку я считаю, что расизм укоренился на куда более обширном пространстве, чем традиционные институты. Понимание перспективы облегчает возможность увидеть эту структурность. Структурный расизм заключён в десятках, сотнях и тысячах людей со схожими предубеждениями, которые объединяются в единую организацию и ведут себя соответственно. Структурный расизм — в той непрошибаемо белой культуре поведения на рабочем месте, при выходе за рамки которой приходится либо подчиняться и соответствовать, либо смириться с неудачами. «Структурный» — подчас единственное слово, чтобы описать то, чего обычно не замечают: молча приподнятую бровь, неявные предубеждения, поспешные суждения, вытекающие из предположений о компетентности.
В тот год, когда я решила, что больше не буду разговаривать с белыми о расе, британские социологи зафиксировали значительный рост людей, которые открыто признавали себя расистами. По информации Guardian, наибольший всплеск подобных настроений приходится на «белых мужчин, профессионалов, в возрасте от 35 до 64 лет, высокообразованных и с высоким уровнем зарплаты».
Так выглядит структурный расизм. Он основан не на личных предрассудках, а на общественных формах предубеждений. Это расизм, у которого достаточно могущества, чтобы влиять на жизни людей. Эти образованные и состоятельные белые, скорее всего, занимают должности, на которых они могут определять, что случится с другими людьми — преподавание, суды, приёмные комиссии, кадровые отделы. Безусловно, это как раз те белые, которые задают культуру поведения на рабочем месте.
Едва ли они будут делиться своими убеждениями с коллегами и знакомыми, поскольку общество негативно относится к носителям расистских убеждений. Их расизм носит скрытый характер. Он проявляется не в оскорблении прохожих на улицах. Его можно заметить лишь в сочувственной улыбке при отказе небелому сотруднику в повышении. В выкинутом в мусорную корзину резюме — ведь у кандидата было иностранное имя. Расизм тесно вплетён в ткань нашего мира. Необходимо, чтобы само общество дало новое определение, что значит быть расистом, и что мы должны делать, чтобы положить ему конец.
Слишком много фактов говорят в пользу того, что ваши шансы на успех в жизни куда ниже, если вы чернокожий британец. В 2010–2011 годах министерство образования обнаружило, что чёрные ученики в Англии в три раза чаще исключались из школы по сравнению с остальными. Чёрных выпускников школ намного реже, чем белых, принимают в престижные университеты группы «Расселл». В 2009 году было обнародовано исследование министерства труда и пенсионного обеспечения, в котором отмечалась несправедливость по отношению к потенциальным работникам: кандидатов с «европейскими» именами приглашали на собеседование намного чаще, чем с африканскими или азиатскими. Несмотря на всё это, многие всё ещё утверждают, что попытки уравнять шансы — это требование привилегий.

Вместо того, чтобы считать положительную дискриминацию решением системной проблемы, её часто называют признаком того, что «политкорректность сошла с ума». Квоты, направленные на ликвидацию непропорционального представительства, обычно наталкиваются на яростное сопротивление. Как правило, этот метод работает следующим образом: руководство той или иной организации начинает понимать, что ситуация не отражает объективную действительность (под внешним или внутренним давлением) и принимает правила по найму кадров, чтобы исправить существующий дисбаланс. Во многих областях жизни, от политики до спорта и театра, внедряются квоты, и всегда их воспринимают в штыки.
В 2002 году Национальная футбольная лига США приняла меры для борьбы с недостатком чёрных менеджеров в этом виде спорта. Правило Руни, названное так в честь умершего в апреле того года председателя комитета по разнообразию НФЛ Дэна Руни, было крайне мягким способом дать больше возможностей цветным. При наличии вакансий старших тренеров команды обязывались пригласить на собеседование как минимум одного афроамериканца или представителя других меньшинств. Это требование касалось лишь первичного отбора, брать на работу именно этого человека было необязательно. Речь не шла о квоте. Не было там и обязательства выбирать между только афроамериканцами или соответствовать определённому проценту меньшинств. Это была лишь очень мягкая попытка уравнять шансы. Правило Руни стало обязательным через год после его разработки. Спустя десять лет оказалось, что оно успешно работает. За этот период в США наняли 12 новых чёрных тренеров, а 17 команд возглавляли чёрные или латиноамериканцы, зачастую сменяющие друг друга. Можно было сделать вывод, что руководство команд начало рассматривать кандидатов, на которых раньше не обратило бы внимания.
К десятилетию этого правила его успех в США начал влиять и на умы в британском футболе. Некоторые решили, что неплохо бы покончить с расистским прошлым и залечить раны, нанесённые улюлюканьем и забрасыванием бананами чернокожих игроков. Грег Дайк, тогдашний председатель Футбольной ассоциации Великобритании, в 2014 году заявил BBC, что руководство этой организации подумывает над введением похожего правила. В 2015 году ситуация в британском футболе, судя по статистике, была плачевной. Хотя в обоих дивизионах доля чернокожих и других меньшинств достигала 25%, в премьер-лиге был лишь один чёрный менеджер, и всего шесть в Английской футбольной лиге. В четырёх высших дивизионах Шотландии не было ни одного чернокожего менеджера, в премьер-лиге Уэльса — лишь один.
Тем не менее перспектива внедрения правила Руни в британском футболе повергла нацию в состояние хаоса. Карл Ойстон, председатель футбольного клуба Блэкпул, назвал правило «формальностью» и «безусловным оскорблением». Ричард Скудамор, главный исполнительный директор Английской премьер-лиги, назвал правило Руни ненужным и взамен предложил создать резерв чернокожих тренеров высшего класса. Судя по общему тону, можно было предположить, что владельцев клубов попросили зайти в ближайший магазин и предложить высокую должность первому попавшемуся чернокожему работнику овощного отдела. В 2016 году Английская футбольная лига выдвинула предложение сделать правило Руни обязательным. Премьер-лига этой идеей явно не вдохновилась, причём даже на добровольной основе.
Пока в Британии обсуждали правило Руни, аналогичные дискуссии развернулись в конференц-залах. Исследование, проведённое в 2014 году одной из кадровых компаний, показало, что в более чем половине из фирм в списке FTSE 100 не было ни единого небелого топ-менеджера. В ответ тогдашний министр по делам бизнеса Винсент Кэйбл предложил оптимистичный план, согласно которому в течение 5 лет 20% управляющих компаниями FTSE 100 должны быть представлены чёрными и другими меньшинствами.

Черные предприниматели Британии
В 2015 году Лондонская школа экономики опубликовала доклад с призывом ввести гендерные квоты для всех высших государственных и частных должностей. Исследование, проведённое в том же году, показало, что меньше 20% топ-менеджеров в Лондоне были женского пола; после этого женщины, работающие в финансовом секторе, заявили о необходимости квот для решения данной проблемы. Аналогично, согласно исследованию 2013 года, более половины дам, занятых в строительной отрасли — из которых многие были наняты компаниями, где женщины составляли лишь 10% штата — также высказались в пользу квот.
Но когда речь заходит о расовом вопросе, то ситуация становится куда менее определённой. Вместо квот, соответствие которым можно определять статистическими методами, предлагаемые решения носят более туманный характер. В 2015 году глава Комитета по стандартам в сфере образования предложил программу положительной дискриминации при наборе учителей, подчеркнув, что этнический состав преподавательских кадров должен отражать таковой среди учеников. На посту главы манчестерской полиции сэр Питер Фаи призвал внести такие изменения в законодательство, чтобы полиция могла прибегать к положительной дискриминации при наборе чернокожих полицейских — при этом он подчёркивал, что «целевых показателей» быть не должно. Но проблема с отсутствием конкретных показателей в программах положительной дискриминации заключается в том, что всегда есть риск симуляции деятельности при отсутствии реального результата.
Инициативы по положительной дискриминации зачастую наталкиваются на ожесточённое сопротивление. Когда меня приглашают на публичные дискуссии по вопросам расы и представительства, то аудитория обычно активно интересуется меритократией и квотами. Чаще всего спрашивают, означают ли квоты, что небелые попадают в привилегированное положение, и не следует ли оценивать кандидатов сугубо с учётом их личных достоинств? Господствует точка зрения, что в любой отрасли белые руководители достигают своих постов одним лишь трудолюбием.
Фундаментом здесь является уверенность, что положительная дискриминация несправедлива, и что белый цвет кожи сам по себе не является преимуществом в нашем мире. Но если это не преимущество, то как тогда объяснить, что в подавляющем большинстве профессий высшие позиции занимают белые мужчины средних лет? Мы не живём в меритократическом обществе, и рассказы, будто трудолюбия достаточно, чтобы подниматься по общественной лестнице, — это злобное невежество.
Сопротивление положительной дискриминации из-за опасений, что правильный человек не получит эту должность, недвусмысленно указывает на то, кого вы считаете более талантливым по умолчанию. Если бы текущая система работала хорошо, а подбор кадров был эффективен, то наши рабочие места выглядели бы совершенно иначе, чем сейчас.

Было время, когда даже я с подозрительностью относилась к мерам по увеличению представительства чернокожих. Я не понимала, зачем это вообще нужно. Зачем мать в период моего взросления советовала мне стараться вдвое более усердно, чем мои белые сверстники. Мне-то казалось, что мы все одинаковы. Когда я уже училась в университете, она прислала мне заявку на участие в программе культурного разнообразия в одной газете, и меня охватили гнев, возмущение и стыд. Поначалу я не собиралась подавать эту заявку. Я чувствовала, что если хочу конкурировать с белыми, то должна это делать безо всяких поблажек. Но мать долго меня упрашивала, и я наконец согласилась, прошла собеседование и в конечном итоге получила стажировку.
В это время стажировки для чёрных и прочих меньшинств казались мне несправедливыми; но как только я увидела ситуацию изнутри, я осознала их необходимость: чернокожие сотрудники, которых я видела вокруг, куда чаще занимались разносом еды или уборкой, чем подготовкой новостей.
Структурный расизм — это то, как отношение к расе в Британии заражает и искажает равенство возможностей. Я полагаю, что наша нация утешается концепцией меритократии и старательно не замечает расового вопроса. Это позволяет нам чувствовать себя прогрессивными. Но игнорирование расового вопроса равнозначно требованию обязательной ассимиляции. Расовый дальтонизм не признаёт существование структурного расизма и всей истории доминирования белой расы. Повторение мифа о всеобщем равенстве отрицает то экономическое, политическое и общественное наследие Великобритании, которое создали белые.
Цвет моей кожи постоянно используют в качестве политического аргумента — расизм делает этот аргумент весомым. Я оказалась в ситуации, которой не желала, но я не хочу и усердно её игнорировать ради торжества лицемерной гармонии. И хотя многие предпочтут искать утешение в доктрине расового дальтонизма, чудовищная разница в шансах на успех для белых и небелых доказывает, что несмотря на все дежурные заявления никакого равенства нет.
Намеренная слепота нужна, чтобы заглушить разговоры о структурном расизме и дальше позволять дурачить себя ложью о меритократии. В 2014 году я провела интервью с чернокожим профессором Кимберли Креншоу, которая подробно остановилась на вопросе намеренного игнорирования расы. «Основная идея заключается в том, что для этого потребуется уничтожить весь расовый дискурс, включая усилия по определению расовых структур, их иерархии и взаимодействия между ними. Это космополитическая стратегия XXI века, попытка заявить „мы перестали оглядываться на прошлое, и вам следует поступить так же“.
Люди, считающие себя левыми, прогрессивными и критичными, убедили себя, что единственный способ выйти за пределы расового вопроса — это прекратить его обсуждать. Переходом на такие позиции они ставят себя в один ряд с пострасовыми либералами и консерваторами, которые мнят, что избавились от расовых предрассудков».
Это инфантильный, неполноценный анализ расизма. Он начинается и заканчивается утверждением, что «дискриминация из-за цвета кожи — это зло» безо всякого осмысления структурного влияния. Такое определение расизма часто используется, чтобы заткнуть рот небелым, которые пытаются объяснить, с какими расовыми предрассудками они сталкиваются. При этом нас же обвиняют в чёрном расизме, что позволяет белым и дальше избегать всякой ответственности.
Но реальность заключается в том, что никакого равенства нет. Правила игры предельно несправедливы. Те различия, которые небелые учатся понимать с самого детства, носят далеко не безобидный характер. Они пропитаны расизмом, стереотипами и, в случае с женщинами, сексизмом.
Для небелых детей практически невозможно получить воспитание, не отравленное расистскими клише, хотя если нам удастся разбогатеть, то мы можем делать вид, что они нас больше не касаются.
Неспособность видеть расовый вопрос никак не помогает покончить с укоренившимся расизмом и улучшить жизнь меньшинств. Нужно прекратить закрывать на это глаза. Нужно изучать, кто получает преимущества из своей расовой принадлежности, а кто из-за неё сталкивается с отрицательными стереотипами; у кого больше шансов достичь власти и привилегий — не только благодаря расе, но и классу, и полу. Начать обращать внимание на расу — это первый шаг к изменению всей системы.
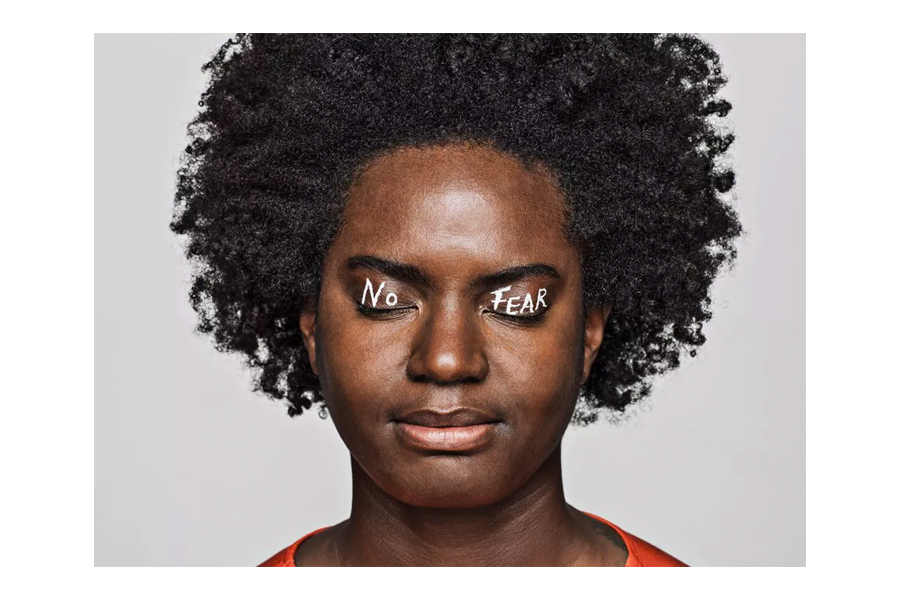
Оригинал материала на сайте The Guardian
Поддержите «Спутник и Погром» покупкой подписки (клик по счетчику просмотров справа внизу) или подарите ее друзьям и близким! У нас нет и никогда не было никаких других спонсоров кроме вас — наших читателей.



