Три Гоголя
Отчего весёлому писателю грустно
Лев Пирогов о Н.В. Гоголе. Продолжение
Ранее: Часть I

ак сказал один мой товарищ (ссылаясь на теорию Фейнмана, согласно которой электрон одновременно проходит через все возможные траектории, являясь всем сразу, целой Вселенной), «каждый из нас является сразу всем, миллионами людей, собранными в одном теле».
Виктор Пелевин в романе «t» говорит о чём-то похожем: вот вроде только что таким благодатным был, таким великопостным, а потом — щёлк! — и превращаешься в гадину распоследнюю, почему так? А это, он говорит, из-за того, что нас разные сценаристы пишут. Ну типа как волей древнего грека управляют разные боги.
Мы на протяжении всей своей жизни с таким своим многообразием боремся. Например, пытаемся выработать у себя убеждения и следовать им. Привыкаем к своему образу, подправляем его. Это нормально. Но иногда кто-то другой внутри нас что-нибудь да откалывает. Удачное или не очень.
Я это к тому, что науке известны как минимум три Гоголя. О первом мы говорили в прошлый раз: чувствительный, сентиментальный мальчик, выросший вне дома и, вероятно, от этого всегда какой-то растрёпанный, неухоженный, немножко жалкий, на всю жизнь сохранивший затаённую тоску по уюту и ласке.

Александр Трофимов в роли Гоголя
Третий Гоголь, главный, последний, знаком большинству по образу, созданному в кино артистом Александром Трофимовым: скорбно нахохлившийся, зябнущий человек рассматривает что-то в пламени свечи. Он изнемог от пошлости мира, у него не осталось сил, а вернее, интереса с ним сражаться; он понял что-то такое, чем нельзя ни с кем поделиться, и это безнадёжно отъединило его от остальных.
Об этом Гоголе «трофимовского периода» существует замечательный анекдот, записанный, кажется, любовницей Некрасова Авдотьей Яковлевной Панаевой — балериной, писательницей и знаменитой мемуаристкой. («Анекдот» в значении XIX века — острохарактерный случай из жизни. Я так люблю его, что даже не уверен в источнике, — он стал для меня собственностью, типа «слова народные».)
Итак, был званый литературный обед. Ждали Гоголя. Все знали: Гоголь будет! А значит, счастье есть! Вот уж скоро придёт… Томились, ждали, затаив дыхание, шушукались. Что-то скажет солнце словесности? Какие мысли о будущности русской литературы выразит величайший из живущих её создателей?
Пришёл Гоголь. Маленький, невзрачный, нахохленный. Сел за стол, молча съел тарелку гречневой каши, тихо поблагодарил и ушёл.
Немая сцена.
Этот Гоголь, пожалуй, хорошо рифмуется с первым. Но вот второй Гоголь, о котором пойдёт речь сегодня, — он был совершенно другой. Молодой, энергичный, дерзкий, по-хорошему нахальный, малообразованный (из всей европейской литературы читал и признавал одного Вальтера Скотта), но крепкий «природным умом» и любопытный. Короче, провинциал, приехавший покорять столицу.
Как вы думаете, с кого бы мог Гоголь написать своего Хлестакова? Ну вот Акакаия Акакиевича, из чьей шинели все вышли, известно с кого: однажды в присутствии Гоголя был рассказан анекдот о чиновнике, утопившем во время охоты ценное ружьё, на которое он копил чуть не всю жизнь. Чиновник занемог и едва не умер. Все над анекдотом смеялись, кроме Гоголя, который якобы уже тогда о чём-то задумался. (Не из шинели вышли, оказывается, а из чеховского ружья.) Ну а Хлестакова с кого?
Да с себя же, разумеется…

Кроме шуток, Хлестакову передалась гениальность его создателей. (Известно, что интригу комедии, как и замысел «Мёртвых душ», подсказал Гоголю Пушкин.) Почему у него всё получается? Всех ввести в заблуждение, задурить, очаровать, обмануть? Ясно, что уездные коррупционеры и сами рады обманываться, но как могли поверить, что вот этот, тонконогий, и есть важный сановник? А всё дело в том, что — он сам это говорит: «У меня лёгкость необыкновенная в мыслях». Помните, когда хвастает, что «Женитьбу Фигаро» написал?
Это смешно, потому что хлестаковская «лёгкость в мыслях», понятно, есть не что иное, как легкомыслие, но ведь и гениальность художника именно «лёгкостью в мыслях» обусловлена, это правда. Когда «будто кто-то твоей рукой водит», кто-то другой внутри тебя… Хлестаков создаёт этакое живое произведение, перформанс, театр одного актёра — за словом в карман не лезет и не проваливается, хоть всё время по краю ходит.
Хлестаков. У меня легкость необыкновенная в мыслях. Все это, что было под именем барона Брамбеуса, «Фрегат Надежды» и «Московский телеграф»… все это я написал.
Анна Андреевна. Так, верно, и «Юрий Милославский» ваше сочинение?
Хлестаков. Да, это мое сочинение.
Марья Антоновна. Ах, маменька, там написано, что это господина Загоскина сочинение.
Анна Андреевна. Ну вот: я и знала, что даже здесь будешь спорить.
Хлестаков. Ах да, это правда, это точно Загоскина; а вот есть другой «Юрий Милославский», так тот уж мой.
Анна Андреевна. Ну, это, верно, я ваш читала. Как хорошо написано!
Необыкновенная лёгкость в мыслях — это мало кому дано.
Обратим внимание, что Хлестаков, помимо прочего, — персонаж глубоко драматический, он не исчерпывается комизмом. Помните, мы говорили о том, что у Гоголя трогательное — смешно, а смешное — жалко, едва не трагично? В «Ревизоре» объектом нашего смеха является чужое горе.
Хлестаков — это человек, который так и не покорил столицу. А тоже были мечты… И вот теперь возвращается — навсегда. Впереди слякотный просёлок, унылая поместная жизнь, папенька-самодур, которого Хлестаков боится. Его вдохновенная болтовня — это погребальный гимн несбывшимся мечтам. Кто знает, что плескалось на дне этой незатейливой души? Хотел служить и дослужиться до министра, хотел писать и, может быть, написать что-то и впрямь не хуже «Женитьбы Фигаро», да ничего не вышло.
«Ревизор» — это целый букет несбывшихся надежд. Рухнули надежды Марьи Антоновны на выгодное замужество, рухнули надежды Петра Иваныча Бобчинского, что о нём скажут государю — живёт, дескать, такой на свете. Нет, не скажут и никто о нём не узнает. Что жил — что не жил. Ему, как и большинству из нас, суждено сгинуть бесследно. Не случайно кричит Городничий: «Чему смеётесь? Над собою смеётесь!» Он это кричит всем нам. If you need assistance or if all you need is love, just look at yourself, как говорится.
Мог бы и Никоша вернуться ни с чем в свою Васильевку. Актёрский экзамен, как помним, он блистательно провалил. Со службой тоже не очень складывалось: пристроят его к месту, а он несколько дней походил и пропал. День, два, три нету, потом является. Ему говорят: Николай Васильевич, голубчик, нельзя так! А он сразу — раз и тянет из кармана прошение об отставке. Заранее написал.
Литературная стезя началась тоже негладко: помните историю с выкупом и сожжением «Ганса Кюхельгартена»? Но Гоголь не намерен был сдаваться. Он зубами вгрызался в будущее.
Так, например, он отправляется на поклон к Фаддею Венедиктовичу Булгарину, главному редактору журнала «Северная пчела» и тогдашнему «литературному начальнику», чтобы засвидетельствовать своё почтение и преподнести ему хвалебную оду, в которой сравнивал Булгарина ни много ни мало с Вальтером Скоттом. От Булгарина Гоголь получил рекомендацию в III Отделение (что-то вроде нынешней Администрации Президента), которой, впрочем, не воспользовался. Уж не литературного ли покровительства он искал? История об этом стыдливо умалчивает.
Сохранилось письмо Гоголя к матери, в котором он обращается к ней с неожиданной просьбой: «Если будете иметь случай, собирайте все попадающиеся вам древние монеты и редкости, какие отыщутся в наших местах, стародавние, старопечатные книги, другие какие-нибудь вещи, антики». Что это вдруг за увлечение стариной? А вот что: увлечённым собирателем древностей был Павел Петрович Свиньин, издатель «Отечественных записок», в которых и была напечатана повесть Гоголя «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Купала»…
Это уже не хлестаковские, а прямо-таки молчалинские манеры!

Впрочем, нужно отдать должное Гоголю-подхалиму: края он видел. Например, он без жалости прекратил многообещающее сотрудничество с «Отечественными записками» из-за того, что «собиратель древностей» опубликовал его повесть в безжалостно отредактированном виде. И службой дорожил только такой, которая не мешала литературным занятиям.
Сводить концы с концами ему помогал кузен матери Андрей Андреевич Трощинский, наследник состояния екатерининского вельможи Дмитрия Прокофьевича Трощинского, миргородского соседа Гоголей по имению. Этот Дмитрий Прокофьевич был барин весёлый. У себя в имении развлекался так: бросит в большую бочку пять золотых монет, деньги весьма приличные, а кто нырнёт да соберёт все их за раз, тот пусть и забирает. Охотников находилось много, в том числе и дворянского, и даже духовного звания… Вот его племянник и был гоголевским благодетелем.
Но, пожалуй, главным литературным крестником Гоголя был поэт и критик Пётр Александрович Плетнёв, профессор словесности в Петербургском университете. Он познакомил Гоголя с Жуковским и Дельвигом, в чьей «Литературной газете» Гоголь начал много и успешно публиковаться. Эти статьи обратили на себя внимание читателей — статьи, но не их автор. Тогда было принято публиковаться под псевдонимами или вовсе без подписи. Для нас это парадоксально звучит: как же так, ведь важно «сделать себе имя»! Но даже повесть «Бисаврюк…», по совету Плетнёва, была опубликована под псевдонимом: Плетнёв считал важным оградить молодой талант от влияния «литературных партий», а также от возможного предубеждения тех, кто помнил Гоголя по его первым неудачным литературным опытам.
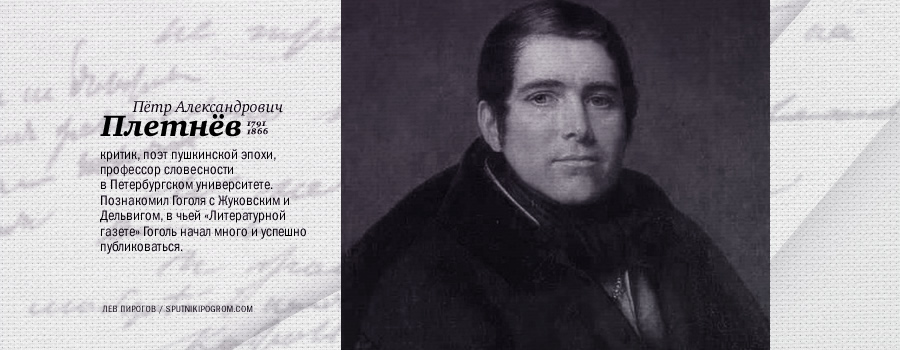
Успех «Вечеров на хуторе близ Диканьки» был ошеломителен, но возникла опасность превратиться в этакий экзотизм — в «малороссийкого самородка», забавный аттракцион для столицы. «Оригинальные художники быстрее всего приедаются: понял их оригинальность, удивился ей однажды, а второй раз уже не удивляешься почему-то…» (Константин Сутягин). А ведь художнику, добившемуся признания, да ещё и признанному «оригинальным», хочется развить успех, не выпустить удачу из рук: «того же яда требует она, который отравил её однажды», как говорится.
Гоголь не поддавался успеху, боролся с ним. Современники вспоминают: «Я обратился к нему с искренними похвалами его „Диканьке“; но, видно, слова мои показались ему обыкновенными комплиментами, и он принял их очень сухо». «Он сомнительно и даже отчасти грустно покачал головой при похвалах, расточаемых новой повести его». Сам он в это время пишет в письме: «Вы спрашиваете об „Вечерах“ Диканьских. Чёрт с ними! (…) Да обрекутся они неизвестности, покамест что-нибудь увесистое, великое, художническое не изыдет из меня!»
Он носится с замыслом комедии для театра, но ничего не выходит, хотя отрывки из неё печатаются и пользуются успехом. («Владимир III степени», о чиновнике, мечтавшем получить этот орден, — что-то между чеховским «Крыжовником» и «Анной на шее».) Увлекается историей, собирается писать многотомную историю Малороссии, хочет даже переехать на жительство в Киев… К счастью, от этого увлечения остаются только «Тарас Бульба» да уничтоженный (в очередной раз) роман «Гетман».
Между тем он преподаёт, читает в университете курс истории; отзывы о его преподавательстве самые разные от «стал посмешищем для студентов» («лицо подвязано платком от зубной боли») до «лекции имели на всех, а в особенности на молодых его слушателей, какое-то воодушевляющее к добру и к нравственной чистоте влияние».
Никакого противоречия между этими отзывами нет; скорее всего, так и было: и был посмешищем, и оказывал влияние, воодушевляющее к добру, одновременно, — ведь это Гоголь, не забываем.
Говорят, костюм его представлял собою смесь щегольства и неряшливости; однажды Гоголь обрил голову, чтобы лучше росли волосы, и носил парик, под который, чтобы тот не сползал, подкладывал вату. Вата под париком сбивалась и самым прискорбным образом выглядывала наружу…
Кое-что вспоминается:
«…И всегда что-нибудь да прилипало к его вицмундиру: или сенца кусочек, или какая-нибудь ниточка; к тому же он имел особенное искусство, ходя по улице, поспевать под окно именно в то самое время, когда из него выбрасывали всякую дрянь, и оттого вечно уносил на своей шляпе арбузные и дынные корки и тому подобный вздор. Ни один раз в жизни не обратил он внимания на то, что делается и происходит всякий день на улице, на что, как известно, всегда посмотрит его же брат, молодой чиновник, простирающий до того проницательность своего бойкого взгляда, что заметит даже, у кого на другой стороне тротуара отпоролась внизу панталон стремешка, — что вызывает всегда лукавую усмешку на лице его».
Узнали? Акакий Акакиевич. «Никто из читателей моих не знал того, что, смеясь над моими героями, он смеялся надо мною» (Гоголь, «Выбранные места из переписки с друзьями»). Это в смысле посмешища, а вот что касается воодушевления к добру и нравственной чистоте:
«Только если уж слишком была невыносима шутка, когда толкали его под руку, мешая заниматься своим делом, он произносил: „Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое преклоняющее на жалость, что один молодой человек, недавно определившийся, который, по примеру других, позволил было себе посмеяться над ним, вдруг остановился, как будто пронзенный, и с тех пор как будто все переменилось перед ним и показалось в другом виде. Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей, с которыми он познакомился, приняв их за приличных, светских людей. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу, с своими проникающими словами: „Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?“ — и в этих проникающих словах звенели другие слова: „Я брат твой“. И закрывал себя рукою бедный молодой человек, и много раз содрогался он потом на веку своем, видя, как много в человеке бесчеловечья, как много скрыто свирепой грубости в утонченной, образованной светскости, и, боже! даже в том человеке, которого свет признает благородным и честным…»
Мы ещё вернёмся к этой строчке: «Какая-то неестественная сила оттолкнула его от товарищей». А пока Гоголь весьма общителен; всё тот же добрый ангел Плетнёв знакомит его с Пушкиным к их обоюдному удовольствию, и случается так, что именно Пушкин подсказывает Гоголю идею того самого «увесистого, великого, художнического», о чём он мечтал.
Чувствуя, что работа над «Мёртвыми душами» предстоит огромная, Гоголь, этот простодушный наглец, просит Пушкина подсказать ему сюжет для лёгкой комедии: нужно же писателю пропитание. «Я, кроме моего скверного жалования университетского — 600 рублей, никаких не имею теперь мест. Сделайте же милость, дайте сюжет».
Не то чтобы он сам не мог ничего придумать, его «Женитьба» уже имела успех, но всё-таки получить наряд на работы их рук самого Пушкина… Это и удача, и наглость изрядная. Давно ли провинциальный школяр восхищённо зачитывался его «Цыганами»? А теперь уже сам Пушкин восхищается молодым писателем и, по мнению Гоголя, делает это правильно: «Обо мне много толковали, разбирая какие-то мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один Пушкин. Он мне говорил всегда, что ещё ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни».
Надо сказать, что слово «пошлость» означало тогда не то же самое, что сейчас. «Пошлость» — это заурядность, ничтожность, приземлённость, самоуспокоенность, ограниченность. И лишь во вторую очередь — дурновкусие и некрасота. Дальше (вслед за приведённой цитатой) Гоголь и пишет, что, смеясь над его героями, читатели смеются над ним самим. А значит, пошлость — это не что-то такое, от чего свободен тот, кто её высмеивает (или кто над ней смеется). «Чему смеётесь? Над собой смеётесь!» В этом и горечь, но и одновременно прощение. Типа слаб человек — ну, что поделать. Быть сильным — отдавать себе отчёт в том, что слаб!
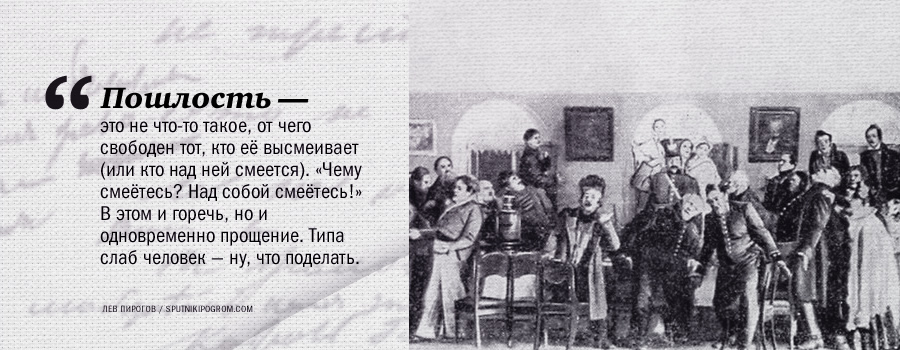
Итак, Пушкин делится с ним замыслом, над которым собирался поработать сам, записав для памяти: «Криспин (Свиньин) приезжает в губернию на ярмонку, его принимают за… Губернатор честный дурак, губернаторша с ним проказит. Криспин сватается за дочь…». Неизвестно, написал бы Пушкин эту вещь или нет, но, надо сказать, он уступает Гоголю своего Криспина-Свиньина не без сожаления, сказав домашним — в шутку, но с оттенком досады: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он обирает меня так, что и кричать нельзя».
омедия «Ревизор» была запрещена к постановке Цензурным комитетом, однако разрешена к представлению в Петербурге высочайшим указом императора Николая Павловича. Он сам был на спектакле, смеялся от души и сказал, выходя из ложи: «Ну пьеска! Всем досталось, а мне — более всех!» (Вообразим себе Путина, добродушно выходящего с премьеры фильма «Левиафан».)
С «Ревизором» произошла примерно та же история, что и с чеховской «Чайкой»: автор хотел сказать что-то «новое» (слишком тонкое или чересчур глубокое), а публика надеялась просто отдохнуть и посмеяться. В результате «Ревизор» публике скорее не понравился, был объявлен «фарсом и клеветой». Публика оказалась более консервативной и охранительной, чем сам государь.
Знакомая коллизия, не правда ли: художник метит в «пошлость жизни» — в её метафизическую тоску, в то, что Бродский называл «скукой» («Скучно на этом свете, господа!»), в то метит, что Сартр намеревался назвать «Меланхолией», но по совету издателя переименовал в «Тошноту», а попадает, как всем кажется, «в Россию». Не потому что Россия пошла и скучна сверх обычного, а потому что мы таковы, но признаться себе в этом не можем, вот и перенаправляем удар.
Человек может иногда назвать себя пошляком, но при этом он убеждён, что таким образом он от этой пошлости очищается (раз осознал проблему, значит, возвысился над нею, преодолел, «снял»), а потому это признание — всего лишь кокетство. «Ох, грешен», — крестишь подбородок, и как будто уже этим признанием грехи искупаешь, по принципу «раз я извинился, значит, не виноват». Жить с искренним осознанием своей ничтожности так же сложно, как жить с пониманием того, что умрёшь: мы для себя «психологически бессмертны», и в искусстве (да и не только в искусстве) нам в первую очередь нравится то, что нам льстит. От чего мы чувствуем себя умными, а не наоборот, нравственными, а не наоборот, особенными, а не наоборот.
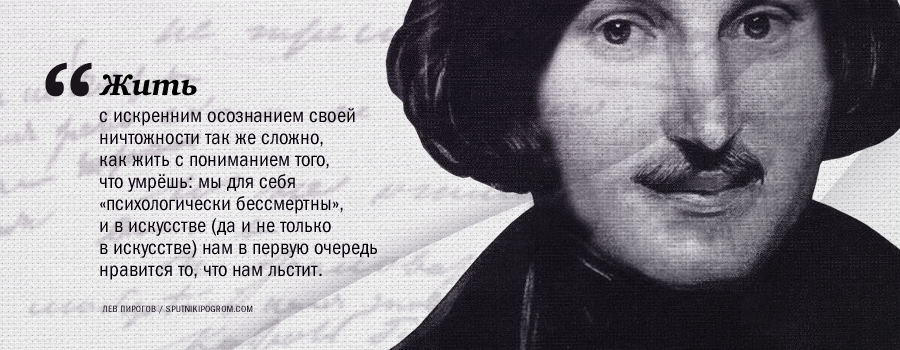
Иногда, впрочем, мы готовы к мазохизму: пусть нас бичуют, ну, или (что ещё обиднее) тычут носом в нашу обычность, — но только тогда, когда мы на это настроились, когда нам это угодно. А тут — пришёл посмеяться над дураками, а автор кричит «над собой смеётесь». Ну и кто же он после этого?
Так наметился путь от Гоголя Второго к Гоголю Третьему, от весельчака и угодника к мрачному (или скорее горькому) христианскому визионеру.
Некоторым, впрочем, именно то и понравилось, что «попал в Россию». Белинскому, например, и иже с ним: «социальный критик», «бичует пороки» — хорошо, правильно. Но зрение художника настроено иначе, чем зрение «социального критика». Где последний видит лишь «общественные пороки», которые можно исправить и преодолеть, там художник видит божественный замысел, «устройство мира». Исправить и преодолеть его невозможно, бессмысленно (см., например, Теоремы Гёделя о неполноте), как невозможно и бессмысленно делать человека бессмертным (он от этого, во-первых, перестанет быть человеком, а во-вторых, перестанет радоваться и заскучает).
Можно считать это «историческим пессимизмом» (дескать, засосало Гоголя болото реакции), но это опять-таки на общественнический, слишком размашистый и от этого поверхностный взгляд. Гоголь предлагал любить людей «чёрненькими», потому что «беленьких» и дурак полюбит (точнее, именно дурак и полюбит, устремившись фантазией к идеалу). А ты попробуй полюбить то, что есть. Нет? Колется? Дурно пахнет? Неинтересно? Poshlost’?
Ладно, поговорим об этом в третьей, заключительной части.

Далее: часть третья
Если вам нравится читать о самых заметных представителях русской культуры именно в таком формате — пожалуйста, поддержите наш проект финансово, чтобы публикации могли продолжиться Спасибо!






















